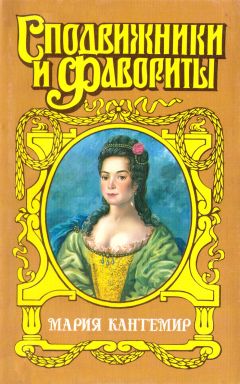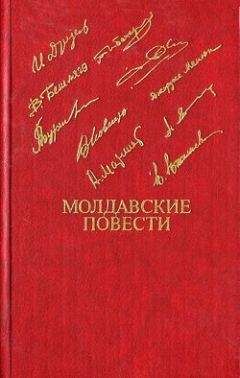Петр Петров - Балакирев
— Слов не нахожу, Егор Михайлович, тебя возблагодарить за приязнь, — ответил Ваня, тронутый и начинающий снова надеяться, что обстоятельства поправятся благодаря влиянию нового друга. — Я твой услужник по гроб… неизменный. Меня коли поддержишь теперь… Я всюду за тобой: куда ты, туда и я… не раздумывая.
У Егора отлегло от сердца, и он с жаром ударил ещё раз по протянутой в знак дружбы Ваниной руке.
— От тебя, Иван Алексеич, впредь таиться Егорка не в жисть ни станет… вся душа нараспашку… Ты — такожде… — И горячо чмокнул в губы повеселевшего на минуту Балакирева.
Это скрепление дружбы последовало на самой шири Невы, разлившейся на ту пору от недавних дождей. С моря веяло отрадною свежестью. Светлые облачка быстро бежали по небу, открывая лёгкую лазурь. На крепостных часах куранты проиграли десять часов. Оба берега Невки, в которую от дружного взмаха четырех весел стремительно влетел рябик, представляли оживлённую картину труда. Народ рабочий копошился справа на Выборгской, на лесных пристанях и в караване барок, стоявших поодаль. Справа же шла спешная стройка домов в береговой слободке. Из-за береговых строений в прорезе переулка показались и две белые трубы дома камергера Монса.
— Ты, Ваня, меня попрежь спусти… И иди не следом за мной. А к примеру сказать, минуты через полторы, чтобы я мог переодеться к твоему приходу. — Говоря это, Столетов вынул английские часы из кармана парчового камзола. Часы эти, когда Столетов поворачивал их, тяжело опуская на ладонь, рисуясь и играя цепью, обратили на себя жадное внимание гребцов на рябике и не произвели никакого впечатления на Балакирева. Он совершенно машинально спросил нового друга:
— Так ты ещё переодеваться будешь… Да рази ты живёшь… не у Вилима Иваныча?
— То-то и есть, что нет… Тут же, близко, да в своём дому. Войдём ко мне… Я одним моментом кафтан, камзол да исподни переменю… Понимаешь, инаково нельзя.
— Почему не понять?.. Понимаю; да только скорее ты.
— Да ведь сам ещё не вставал… не бойся… не опоздаешь… И помедлить гораздо можешь… и то ничего.
— Ой ли! Так и до Посадской дойти успею, может?
— И то ладно… А там кто у тебя?
— Кое-кто есть, — ответил Ваня, не успев или не сумев скрыть невольного вздоха.
Повеселевшему Столетову этот вздох Вани прояснил многое.
— Эге! — думал теперь секретарь Монса, — да Балакирев, видно, по девчурке вздыхает… А я было, осел, подумал, что парень мироед и шельмовец какой… А он?! Значит, в ем мне клад даётся! Смышлён крепко, а облыжности нече бояться, — во все пустим его… Пусть на свой пай зашибает… нам ещё безопаснее. Нужно у Монса настоять, чтобы в нашенские его. А там все пойдёт по маслу парень — просто золото.
Слова эти, думая вслух, произносил Столетов у себя, живо переодеваясь в обычный свой кафтан и глядя в оконце вдоль улицы, вслед уходившему Ване. Он между тем, поравнявшись с поповским домом, был встречен радостною Дашею, как будто нарочно поджидавшею милого друга в огороде.
— Я на минутку забежал… К Монсу иду… с цидулою.
— Не пущу! — шутливо схватя его за плечо, промолвил, подкравшись, поп Егор.
— Нельзя долго-то… Наспех послан… Вы все… здоровы?
— Ночевали здорово, тебя проводивши. А ты, батюшка, как?
— Я-то? Здоров… Бабушка приехала… — и сам немного замялся.
— Где же она остановилась?.. Ты к нам бы её…
— Коли бы пошла, с моим великим удовольствием… Попрежь познакомиться нужно только… Она маленько своеобычлива, — невольно высказался Ваня. И у него на душе опять стало невесело.
— Что ж, что своеобычлива! — отозвалась попадья, снова теперь уже заискивающая в Ване после микрюковского афронта.
— Известно, человек пожилой надо угождать… Да ты, батюшка Ванюшка, только приведи знай… А уж моё дело бабушке всякое почтение будет оказать… Останется довольна. Не каки мы такие завалящие, не станет брезговать… А почтение старому человеку первое дело…
Ваня вздохнул. Он понимал теперь невозможность согласить то почтение, которого хотелось бабушке, с стремлениями его чувства, сулившего счастье. Оно теперь представлялось ему осязательно, покуда горячая рука Даши лежала в его руке. Зная характер Лукерьи Демьяновны, Ваня не верил, что это счастие устроится с благословения бабушки и может сделаться для неё желанным. На беду ведь подсунулась ей на первом шагу эта ненавистная Ильинична. Поставила вверх дном самые задушевные стремления и Вани, и свои, и тех добрых существ, которые верили, что могут понравиться помещице. Веры в это у Вани не было, и мечтания, которыми думал утешать он себя, не слагались во что-нибудь, похожее на общий мир и счастие. Поддержка влиятельного Монса, к которому теперь шёл Ваня, после откровений Столетова теперь претила честному Балакиреву. Брататься с грабителем, каким показался Егор Балакиреву, по необходимости или даже оставаться с ним в дружбе и единении он сознавал себя неспособным. Но крайняя нужда в его поддержке, впрочем, заставляла искать его временного содействия и помощи. А там — что Бог даст! — вылилось окончательное решение в мыслях Вани, когда, простясь с попом Егором и всеми его домашними, он торопливо подбежал к крылечку обиталища дарителя милостей.
На этот раз посланного царицы уже ожидали. Босоногий калмычонок, не дожидаясь стука в кольцо, отворил дверь в переднюю и снял епанчу с Балакирева… А Столетов, завидя его, сам ушёл докладывать, не спрашивая, и, выйдя через мгновение, молча указал ему путь к Вилиму Ивановичу в спальню. В неё входили из гостиной с двумя окнами, от которой роскошью уборов она не отличалась. Можно даже сказать, что опочивальня генерал-адъютанта и камер-юнкера больше походила на будуар модной красавицы западной Европы, чем на каютку холостого военного русской службы. Вилим Иванович Монс в спальне своей не только спал, но и занимался, проводя большую часть времени. Оттого и обстановка спального чертога была роскошная, изысканная и заключала в себе все, что нежило и утешало владельца дома. Он в спальне своей окружён был изображениями особ, оказывавших ему благосклонность. Тут в разных (по форме и размеру) рамках развешаны были шесть портретиков красавиц, между которыми на самом почётном месте, под зеркалом в серебряной раме, писанный масляными красками кистью Ганнауэра лик царицы Екатерины Алексеевны. Персона её грозного супруга помещалась в гостиной тоже под зеркалом. Так обыкновенно тогда по московскому обычаю помещали ценные картины. Отважный камер-юнкер в недосягаемом для посторонних спальном чертоге своём поместил и свой миниатюрный портрет в соседстве с изображением государыни (даже между ею и зеркалом). Балакирев, пройдя в спальню и случайно бросив взгляд на стену, противоположную пологу кровати, мгновенно подметил это, несмотря на то что портрет красавца камер-юнкера был задёрнут серенькою кисейкой.
А Вилим Иваныч был в полном смысле красавец: с чертами женственными, необыкновенно приятными да с цветом лица и губ самым живым и здоровым. Яркое лицо в рамке чёрных природных кудрей при огненном взгляде глаз и очаровательной улыбке даже самого бесстрастного созерцателя заставляло невольно сознаться, что редко приходится встречать такую картину. Прибавьте приятный, гармоничный голос, несколько картавивший, но так, что это не портило общего впечатления, высокий рост, статность, маленькую аристократическую руку, под пару которой не найти было у мужчины в целой России, — и вы поймёте, как современницы должны были приходить в восторг от страстного взгляда Монса! Он же, вполне осознавая своё физическое совершенство, хотя и был весьма влюбчив, но надолго не привязывался ни к какой юбке. При встрече с отставной своей фавориткой он прикидывался ещё сохраняющим к ней чувство, ловко обманывая доверчивость страсти ссылкою на недосуга, мешавшие свиданию… Так что врагов между особами прекрасного пола у Монса не было. С каждою новою любовницею он увеличивал штат вздыхательниц, никогда за удовольствие ничем не жертвуя, а скорее приобретая даже благосклонность.
Монсу было всего тридцать лет, но он казался годами пятью моложе. В эти годы, в полном смысле цветущие, не требуется, разумеется, особых забот о поддержании физических прелестей, тем более у человека отнюдь не истощённого и — к чести красавца нужно прибавить — не любившего никаких излишеств. Но весь почти стол в спальне камер-юнкера уставлен был флаконами да скляницами, наполненными всякими средствами, недёшево стоившими и придуманными угодливым Западом для возвышения или поддержания природных прелестей. Одних инструментов для приведения в благообразный вид ногтей лежало больше дюжины в двух раскрытых готовальнях. Красок и помад было тут двадцать две склянки причудливых изящных форм, в виде голов разных народов, от китайца до негра. Огромное количество других туалетных принадлежностей расставлено было рядами на бархатном вишнёвом покрове стола. На нём оставалось места у стенки не шире полуаршина для письменных принадлежностей и немецкого молитвенника малинового бархата с золотыми застёжками. На стене же кроме портретов и зеркал развешаны были арапники, уздечки, ошейники собачьи и два горские аркана. Тогда как под пологом кровати и по сторонам его, на стене, противоположной столу, красовалось дорогое оружие с золотыми и серебряными насечками.