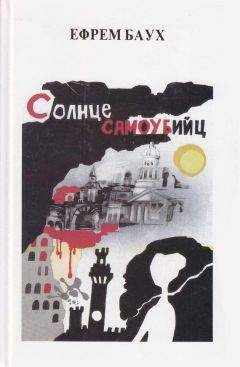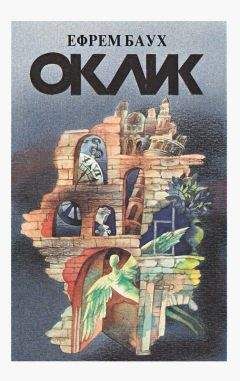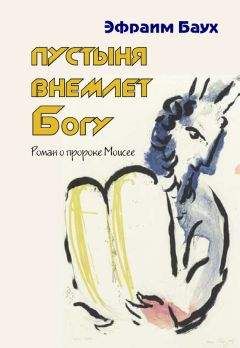Эндрю Миллер - Жажда боли
— Если услышите, что он разговаривает, запишите сказанное, а если не можете записать, то запомните.
— Будет сделано.
— Как он относится к кандалам?
— Не жалуется.
— Сегодня ему предстоит лечение водой.
— Да, сэр.
— И дать ему рвотного.
— Да, сэр. Пустить ли ему кровь?
— Санитар!
— Сэр?
— Посадите его на тюфяк. Он ест?
— Мы кладем еду ему в рот, сэр. Но глотает он не всегда.
— Если ты будешь плохо есть, Дайер, я велю Вагнеру заталкивать пищу тебе в глотку палкой. Да-да, как французской гусыне. Как прошла вода?
— Он кричал.
— Думаете, от холода?
— Да, сэр.
— Только кричал? Не произносил ли каких-нибудь слов?
— Чье-то имя, сэр.
— Какое имя?
— Похоже на Марию или Мэри.
— Очень хорошо. Скажи-ка нам, Дайер, кто тебе эта Мария? Жена? Сестра? Шлюха?
— Может, он католик недорезанный. Я могу заставить его говорить, сэр, только скажите.
— Нет, мистер Вагнер. Ничего такого не требуется. Мы живем в просвещенный век, и нами движут природа и философия.
— ООООУУУУУУУУУУУУУУ! ОУУ ООООУУУУУУУУУУУУ!
— Заткните ему рот!
— Меня зовут Адам. Я принес тебе молока. Не пролей. Это молоко. Свежее молоко. Коли имеешь деньги, можешь купить тут все, что хочешь. Будешь вести себя хорошо, с тебя снимут цепи и выпустят гулять по галереям. Я сижу здесь уже триста девятнадцать ночей и триста двадцать дней. Меня освободят, когда мир излечится от безумия. Они безумнее нас с тобою, друг мой, только ты им этого не говори. Говори лишь то, что они хотят от тебя услышать. Они все слабаки. А ты пей, ибо, чтобы быть сумасшедшим, нужны силы.
— Дайер!
— Отвечай!
— Ты будешь сегодня говорить?
— Да нет да нет да нет да нет…
— Что он говорит?
— Говорит, что будет.
— Выть не станешь?
— Нет.
— Воют, сударь, собаки. Откуда у тебя на руках эти следы?
— Не помню.
— Заметьте, Вагнер, сумасшедший — очень хитрое создание. Держу пари, это он сам себя разукрасил. Кто такая Мэри?
— Не знаю.
— Экий лжец. Надеюсь, ты хоть семью-то свою помнишь?
— Они все умерли.
— А друзья? И у сумасшедших бывают друзья.
— У меня их нет.
— Дайер, ты хочешь гулять без цепей по галереям?
— Очень хочу, сэр.
— Что бы ты отдал за это?
— Но у меня ничего нет.
— А если б было, что бы ты отдал?
— Все.
— Все — это слишком много, сэр. Ответ безумца. Ха! Вот он и попался, Вагнер. Больной ведет себя прилично, слушается?
— Бывают и хуже.
— Что ж, посмотрим. Даю ему еще месяц. Если будет молодцом, кандалы снимем. Велите постелить ему свежей соломы. Что за страшная вонь! Моя собака и то побрезговала бы сюда войти.
— Наверно, мне суждено умереть здесь, Адам.
— Многие поначалу так думают.
— А потом?
— Те, кто не умирает, живут.
— А как ты живешь?
— Я никому не враг.
— И этого достаточно?
— Я прячусь в свои мысли. В них я отправляюсь путешествовать, куда захочу, разговариваю, с кем захочу.
— Я слышал, как пела женщина. Вчера или прошлым вечером. Не знаю, когда именно.
— Их приводят на ночь санитары. Они для ублажения санитаров.
— А сумасшедшие женщины тут есть?
— Их держат отдельно. Под замком. Иногда их можно увидеть или услышать.
— Адам, сколько ты уже сидишь здесь?
— Триста шестьдесят дней, триста пятьдесят девять ночей.
— Дайер!
— Сэр?
— Я хочу ударить тебя по голове.
— Прошу вас не делать этого.
— Почему ты просишь?
— Когда меня бьют по голове, мне очень больно.
— Ну-ну, не бывает лечения без неудобств.
— Пожалуйста, не делайте этого.
— Думаю, ты не желаешь поправляться.
— Желаю.
— А я думаю, нет.
— Желаю, сэр.
— Тогда я ударю тебя по голове. Я всегда делаю то, что нахожу нужным. Не так ли, Вагнер?
— Именно так, сэр.
4
День Всех Святых 1768 года. С Джеймса Дайера снимают оковы. Хотя теперь ему разрешено гулять по галереям, он остается в своей клетушке, пока Адам не выводит его на свет божий и не представляет обществу. Кромвель, Перикл; полдюжины ветхозаветных пророков, ведущих торг с продавцом пива, а также мальчиком, принесшим ведро устриц и креветок, и девочкой с корзиной апельсинов. Здесь и санитар О’Коннор; вспомнив Джеймса, он тычет ему в грудь концом своей палки, отчего Джеймс летит кувырком, в ту же минуту, впрочем, утрачивая для О’Коннора всякий интерес.
На ступеньках полоумный методист, безмолвно молясь, отгоняет рои дьявольских пчел. Другие обитатели больницы сидят, лежат или стоят: в отрепьях, в шутовских нарядах, в одеялах. Ковыряют свои язвы, раскачиваются на пятках, стонут, пускают слюни и плачут. В ногах у методиста лысый портной пришивает один несуществующий кусок материи к другому. Шум отзывается эхом, точно в соборе расположился бестиарий.
Джеймс показывает куда-то сквозь решетку, отделяющую мужчин от женщин:
— Что это такое?
— Это называется «гроб». Чтоб наказывать буйных.
Они подходят к решетке. На той стороне на двух маленьких железных колесиках стоит узкий ящик от пяти до шести футов высотой. Вверху ящика сделано отверстие шести дюймов в диаметре. В нем Джеймс видит бледный овал женского лица.
— Это Дот Флайер, — объясняет Адам и, обращаясь к женщине, говорит: — Добрый тебе день, Дот.
— Как она, должно быть, страдает, — произносит Джеймс.
— Она уже привыкла. Дот буйнопомешанная, даже санитары ее боятся.
— Но ведь она не всегда сидит там?
— Иногда она тихая.
Из глубины ящика, словно откуда-то издалека, до них доносится торжественный, как у вещуньи, голос:
— Назови свое имя.
— Меня зовут Адам, сестра.
— А того, другого?
— Его имя Джеймс. Недавно сбросил железы.
Женщина начинает петь.
— У нее отец был музыкантом, — поясняет Адам. — В колодце утопился.
Ее голос звучит все громче, и песня внутри ящика разрастается. Санитарка Пассмор стучит по деревянной стенке. Пение Дот Флайер сотрясает воздух, изгоняя остатки тишины из бедлама. Появляется еще одна санитарка. Вдвоем они катят куда-то ящик. И песня стихает вдали.
Он видит Дот на следующий день, видит тень и блики на ее лице. Подходит к решетке и, подавшись вперед, прижимается к прутьям щекой. Иногда ему кажется, что лицо исчезло, и тогда ящик похож на выпотрошенные стенные часы, стоящие на колесиках посреди тонких полос света и тени в галерее. Свет проникает сквозь окна незапертых камер. А ветер приносит звуки внешнего мира, его незамысловатую музыку: скот мычит на полях Мурфилдз, грохочут экипажи, и сокольники покрикивают на своих птиц, охотясь на Лондонской стене…
Вдруг женщина моргает или поворачивает голову, и он вновь ощущает ее присутствие. Он не говорит с ней. Ему интересно, замечает ли она его или же в своем страдании способна обращать внимание лишь на себя одну. Шепотом он здоровается, ждет ответа, потом, шаркая, уходит в свою конуру.
На следующий день ее нигде нет, через два дня тоже. Он не видит ее целую неделю. Когда же наконец замечает ее, то она уже не в «гробу». Джеймс узнает ее по взгляду. Она стоит, окруженная свитой сумасшедших женщин и санитарок, ее медные волосы коротко острижены, глаз, украшенный зеленым синяком, весь заплыл, а на нижней губе краснеет язвочка герпеса. Когда Джеймс подходит к решетке, она что-то шепчет одной из своих товарок. Все оборачиваются, смеясь. Дот Флайер хохочет громче всех. Джеймсу становится стыдно, стыдно своих отрепьев, своего постаревшего лица, скованных движений, утративших былое изящество. Стыдно, что он смеет мечтать ей понравиться.
Заметив его смущение, женщины смеются еще громче. Одна из них поворачивается к нему спиной, задирает юбки и показывает ему свой помятый зад. Дот Флайер больше не хохочет. Она глядит на Джеймса, и в ее выражении есть что-то от Мэри, столь прям и пронзителен ее взгляд. Затем, словно наконец удостоверившись в наличии или отсутствии того, что ожидала увидеть, она удаляется в женский флигель, сопровождаемая своею свитою; грубоватая и жалкая сестринская община, землячество обреченных.
В самые темные и беспокойные ночные часы, в «кладбищенскую вахту», он тщится понять, что с ним сталось. Кто он таков? Безумец в сумасшедшем доме. Чужой самому себе. Ночью его сознание страдает невоздержанностью, а тело, случается, — недержанием. В бороде появились жесткие седые завитки. Руки трясутся, как у паралитика. Иногда по утрам он просыпается от такой страшной боли в ноге, что, если бы под рукой было оружие, он бы прикончил себя не задумываясь. Он живет в ужасе перед врачом, Вагнером, О’Коннором, всеми санитарами, включая даже тех, кто относится к нему по-доброму, ибо ничто так не расстраивает его, как доброта. Сердце его — открытая рана, и ее разбередила та женщина, дочь утопленника. Ее имя просачивается в его сны, словно вода в погреб. Она постоянно пребывает в его мыслях. И хоть Джеймс ее избегает, это имя он твердит одними губами, когда его, голого, загоняют в угол и обливают ледяной водой; когда прижигают волдыри, ставят банки; когда от какого-то снадобья его выворачивает на собственные колени, рвота жжет в носу, и ему кажется, будто он вот-вот извергнет собственный желудок. Дот, Дот, Дот. Какое прекрасное имя!