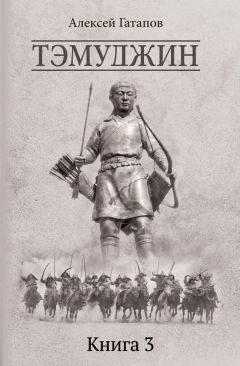Владимир Возовиков - Поле Куликово
— Господи, помилуй, господи, помилуй! — шептал слуга Тетюшкова, а сам посол, казалось, окаменел со сжатыми кулаками. Глаза его вдруг сверкнули, и он снова вскочил. Правый фланг русского отряда, отрубленный от основной рати, не потерял боевого порядка, образовал жесткий квадрат наподобие римской когорты, какие Тетюшков видел в византийских книгах, и, отбросив копьями сотню на гнедых лошадях, решительно двинулся вниз по склону увала. Воины, наклоняясь, подхватывали оружие сбитых с коней врагов, в руках у многих засверкали мечи. Отброшенная сотня, поворотив коней, попыталась атаковать отделившийся отряд с тыла, но воины закинули длинные щиты на спины, чтобы защититься от стрел, задние ряды, оборачиваясь, с такой яростью встречали всадников копьями и подобранными камнями, что те всякий раз отскакивали; даже освободившаяся половина сотни на вороных не помогла переломить бой.
Мамай взвыл от бешенства. Это он с Темир-беком придумал кровавую потеху, уверенный, что она станет не только лучшим зрелищем на празднике и легкой тренировкой для трех сотен всадников, но и возбудит в зрителях жажду крови и битв, а московскому послу покажет, что ждет русское войско. Он приказал согнать вместе несколько сот степного сброда, приодеть под русских пешцев, вооружить трофейными щитами и дрянными пиками, дать плохонькие кольчуги и, построив, вывести на избиение. Несчастным сказали, будто бить их всерьез не станут, в худшем случае постегают плетьми да и отпустят, поэтому и всадники особого сопротивления не ждали. Но к степному сброду, которого показалось маловато, присоединили полторы сотни русских рабов, среди которых немало бывших воинов. И какой же болван-мурза допустил, чтобы русы оказались в строю рядом?! Мамай видел — это они. И почему теперь стрелки его не замечают белобородого старика с саблей в руке посередине ожесточившегося человеческого квадрата? Разве непонятно, что он командует упрямым отрядом?! Его надо немедленно поразить стрелой!
— Трусы!.. Болваны!..
Мамай бешено топал ногами, и вдруг в памяти его мелькнуло давнее-давнее, казалось забытое навеки. Он, мальчишка, с палкой в руке гонится за рыжим зверьком, не раз забиравшимся в юрту, настигает его у норы, замахивается, — и в этот момент зверек мгновенно обернулся, подпрыгнул, взвизгнул, показав мелкие зубы, и он, Мамай, отпрянул в таком испуге, что в груди похолодело. Не ожидал!.. Пока одумался, зверек юркнул в нору…
Но тут не маленький зверек — больше, сотни отчаявшихся людей, знающих, что им пощады не будет, шли прямо на ханский лагерь. Неотвратимое приближение этого грозящего копьями человеческого ежа здесь, посреди Орды, заставило содрогнуться старого воина Мамая. Он воочию видел тот лучший боевой строй, который способна создать копьеносная пехота против любой конницы. А если бы русы успели объединить вокруг себя те сотни степного сброда, который гибнет сейчас под копытами разъяренных всадников?!
«Витязи мои милые, соколы сизые, воины святорусские, — шептал посол одними губами. — Покажите им, как умирают в бою русские люди!..»
— Нукеры!.. Где мои нукеры? — топал ногами Мамай.
Завизжали женщины, многих блюдолизов из свиты как ветром сдуло, лишь темники и нукеры сгрудились вокруг Мамая. Но уже тяжко топотали по полю две отборные сотни, всегда стоящие наготове, и батыры — участники состязаний, злорадно следившие за опозоренными соплеменниками, которых вместо наград ждут плети, теперь хлынули с окрестных высот грозной лавой. Мамай опомнился.
— Остановите их! — заорал он. — Окружить русов и не трогать!
Он уже понимал, что, не останови иабиения русов, многие подумают — Мамай испугался сотни изможденных рабов. Нет, он вызвал нукеров, чтобы спасти этих несчастных.
— Бейбулат! Усади гостей на места да вороти трусливых шакалов из свиты. Они заслужили плетей, но пусть лучше их бледные лица сгорят от стыда. Коня! Послу тоже!
Вслед за Мамаем Тетюшков подъехал к строю русских, плотно окруженных конными ордынцами. Маленький боевой квадрат по-прежнему щетинился копьями и не подпускал к себе вражеских всадников. Здесь были молодые и старые люди, но все одинаково худые и обросшие. Лица и одежда многих в крови, глаза сверкают ненавистью из-за щитов, в них отчаяние, смешанное с упоением яростью боя. Какое счастье для раба — умереть с оружием в руках!
— Поднимите копья, храбрые воины! С вами говорю я — повелитель Золотой Орды, и обещаю: никто вас больше не тронет.
Железная щетина лишь слабо колыхнулась.
— Вы не верите слову повелителя? — крикнул толмач.
— Не верим! — раздалось из строя. — Научились не верить!
Мамай усмехнулся, снисходительно произнес:
— Если бы я хотел раздавить вас, довольно было бы слова.
— Дави! Пока мы колючие.
Мамай засмеялся:
— Твоя храбрость нравится мне, старик. Иди ко мне на службу. Я видел, как ты дрался, я сделаю тебя сотником. В Орде много сброда, которому нужны сильные начальники. Плачу я хорошо.
Старик промолчал, и Мамай по-своему истолковал его молчание: не верит.
— Своей храбростью и воинским умением вы доставили мне большое удовольствие. Не то что те тарбаганы, которые превратились в падаль для ворон.
— Люди ж были! Обманули вы их и посекли.
— Люди? Люди умеют постоять за себя в бою, как вы постояли. За то дарую вам жизнь и свободу. Кто захочет, останется в моем войске. Кто не хочет — пусть уходит.
Старик молчал, раздумывая.
— Прикажи, повелитель, я поговорю с ними, — процедил сквозь зубы Темир-бек.
— Молчи, темник. Порубить их — не много чести. Создать в нашем войске отряд московитов — то первая рана Димитрию. — И уже громко: — Вы снова не верите мне? Так. Со мной посол московского князя, он знает твердость моего слова.
С какой надеждой глаза обреченных обратились к русобородому всаднику!
— Правда, што ль, боярин, посол ты аль нет?
— Правда, — негромко ответил Тетюшков, и так ему стало тяжко, словно жестоко обманывал этих измученных, израненных людей в их последней надежде.
— Наш, — произнес старик, заблестев глазами. — Аль не признал меня, Захария? Иван я, Иван Копье… Помнишь Ивана?
— Иван?! — прошептал Тетюшков, с трудом узнавая друга, три года назад сгинувшего вместе с торговым караваном в Кафу, который он охранял.
«Старик» оборотился назад, громко сказал:
— Што, ребята, поверим еще раз царю татарскому? Теперь, коль што, на Руси услышат про нас.
Воины начали бросать копья, мечи, щиты и камни.
— Кто хочет служить татарскому царю, отходи на левую руку, кто не хочет — на правую.
Скоро вся маленькая рать стояла справа от Ивана Копье.
— Повелеваю! — резко заговорил потемневший Мамай. — Накормите их и отпустите. Но когда солнце зайдет за край степи, тот, кто не покинет пределы Орды, снова станет рабом.
Потрясенный Тетюшков молча ехал обратно среди мрачных мурз. Он ненавидел себя — как будто помог злобному владыке степи обвести соплеменников. Ведь и самому здоровому человеку не уйти до заката из пределов огромной Орды. На лошади-то не ускачешь! Как помочь несчастным, пока они обладают этой призрачной свободой? Представить страшно, что ждет их, когда кончится назначенный Мамаем срок. Купить коней? У кого? Кто осмелится навредить Мамаю? Разве Бейбулат?.. Сегодня отпадает — Мамай отличил его перед другими наянами. Может быть, хан Темучин, которого зовут Темучином за особенное внешнее сходство с Чингисханом? Он больше других злобится, что Мамай оказал честь Бейбулату…
Занятый мыслями, Тетюшков не видел, как Мамай наклонился к уху ближнего мурзы: он приказывал, чтобы ни один из строптивых русов не пережил нынешнего заката.
Русов увели, раненых добили, толпа заранее пригнанных рабов быстро убрала трупы, ристалище перед холмом снова приняло праздничный вид, лишь прибавилось мух, летящих на кровь со всей окрестной степи.
Лучники стреляли по живым мишеням, и когда остались самые искусные, над толпой выпустили стайку голубей. Цель труднейшая, и вздох сожаления уже пронесся среди зрителей, оттого что пестрое облачко лишь колыхнулось, пропустив сквозь себя десяток смертей, когда светло-сизую голубку, летящую над самой свитой, будто змея клюнула в бок. Трепещущий ком упал на ковер возле ног царевны, Наиля с жалостью смотрела, как изящная птица последний раз ударила крыльями, как потух ее зрачок, окольцованный красноватым огоньком, и красная кровь закапала из раскрытого клюва.
— Вызывается тот, кто стрелял! — возгласили бирючи. От стрелков отделился знакомый всем стройный воин в пурпурном плаще. Склонясь перед царевной, он негромко сказал:
— Мне жаль эту птицу, чистую, как само небо. Но когда в небо смотрит прекраснейшая в мире девушка, небо ничего не желает больше, ему мешают даже голубиные крылья. Не моя рука, а твои глаза, великая царевна, наводили эту стрелу.