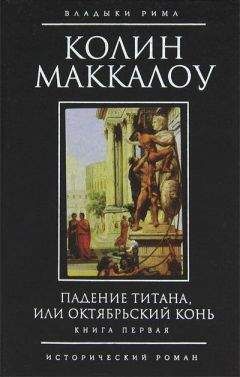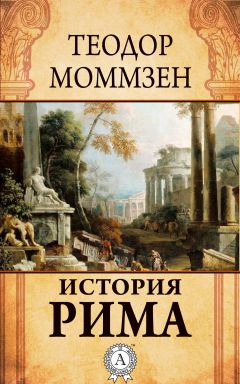Михайло Старицкий - Буря
Нет в ее душе больше ни ревности, ни злобы: все смиряет, все исцеляет кроткий Христос!.. Голова ее опустилась на грудь… Темная тень от ресниц упала на бледное лицо. Двух только жаль, тех двух, что искренно любили ее: брата и Богуна. Где он теперь! О, если б знал, какая страшная наступает для нее минута, — примчался бы с края света сюда! А может — и жив ли? Добрый, отважный и честный! Нет, он козак, козак с головы до ног… Судьба его родины заставит его забыть свое горе, и подымется он еще сильнее и отважнее, чем был до сих пор! Брат только… вырвать у него из семьи сестру, все равно что вырвать последнюю радость… — Белица горько улыбнулась: «Что же делать, родной мой! В жизни мы с тобою мало узнали счастья. Одни родятся для того, чтобы быть счастливыми, другие для того, чтобы уступать свое счастье другим… Ты забыл для своего дела и свои радости, и свою жизнь… Ты — тот же воин Христов… Только ты борешься за него саблею, а я, как могу, — смиренною душой…».
Вдруг мертвую тишину кельи нарушил печальный и протяжный звук колокола, донесшийся издалека. Белица вздрогнула; бледное лицо ее застыло в каком–то мучительном ужасе… Несколько минут она сидела неподвижно, как каменная, словно прислушиваясь к замирающему звуку печального удара, еще трепетавшему в воздухе. Наконец она поднялась, опираясь о стул руками.
— Кончено, — произнесла белица тихо и провела по сухим глазам рукой, — кончено! Через несколько минут на нее наденут монашеский клобук. Прощай, жизнь, прощай, радость, прощай, никогда неизведанное счастье! Душа моя готова, господи! Войди же в нее с силою и крепостию твоей!.. — Белица опустилась перед образами на колени и склонила голову.
Вот раздался снова погребальный звук колокола, еще и еще один, все чаще и чаще. Неподвижно стояла у икон молодая белица. Что думала, что чувствовала она в эти мгновенья? Ждала ли она с трепетом священным роковой минуты, или в тихой душе ее пробуждался смутно и неясно ропот молодой жизни, так бесповоротно убиваемой здесь? Тихий стук заставил ее очнуться; белица поднялась с колен и отворила низенькую дверь. В келью вошел горбатый старичок в схимнической[63] одежде.
— Дитя мое, — произнес он, благословляя ее, — народ уже стекается в храм; скоро начнется божественное служение; близится час, в который ты должна будешь произнести у алтаря страшные клятвы и обеты. Подумай… еще есть время… ты так молода… Знаю я, что молодое горе тает от первого солнца, как весенний снег.
— Святой отец, — произнесла тихо белица, опускаясь перед стариком на колени, — я много думала и страдала, и душа моя готова…
Старик ласково опустил ей на голову руку:
— Испытай еще раз свое сердце, дитя мое, — проговорил он слабым голосом. — Близится для тебя великая минута: испытай же его, чтобы не предстать перед господом с омраченным гневом и страстями лицом.
Девушка склонила голову; несколько минут она словно собиралась с мыслями… Но вот она снова подняла ее и взглянула в лицо старика своими светлыми, лучистыми глазами.
— Нет, отче мой, — произнесла она тихо, но твердо, — в душе моей нет больше ни гнева, ни страстей.
— Не чувствуешь ли ты чего особого на совести? Не желаешь ли ты передать мне что–либо? Говори, дитя мое, все, не бойся, господь всепрощающ и кроток.
— Святой отец мой, да! — произнесла белица с болью. — В этом грехе я каялась не раз и перед тобой, и пред лицом господа бога. Молитвою и слезами молила я царицу небесную избавить меня от мучений его; я просила господа вселить в мое сердце кротость, смирение и любовь. И он, милосердный, нигде не оставлявший меня, услышал мою молитву и в этот раз… Готова душа моя… Не удерживай же, отче, меня!
— Но чувствуешь ли ты в себе достаточно силы, бедное дитя мое, подумала ли ты о том, что монашеский подвиг мучителен и тяжел?
— Отец мой, все знаю я… Я хочу заслужить прощение и оставление грехов…
Старик ласково провел рукою по ее голове.
— Не чувствуешь ли ты хоть малейшего сожаления о жизни? О дитя мое! Молодое сердце — как юное дерево, пригнутое к самой земле, оно снова подымается вверх. Заслужить прощение ты сможешь и в жизни! Если хоть самое малое сомнение или сожаление шевелится теперь в душе твоей — остановись! Есть еще время… Господь не требует жертв, но веры лишь и любви!
Мучительное, болезненное страдание пробежало по лицу белицы.
— Отец мой, — прошептала она, устремляя на него полные слез глаза. — Мне нечего ждать от жизни, одно мне утешение — в боге. Не отталкивай же меня!
— Да будет так! — произнес с чувством старик, скрещивая руки на ее голове. — Без воли его не упадет–бо ни единый волос с головы…
Между тем по дороге, ведущей через лес, отделявший город Подол от Печер, быстро скакали два всадника.
Они то и дело пришпоривали своих коней; по их озабоченным, взволнованным лицам видно было, что они торопились по какому–то спешному и тревожному делу.
— Какое счастие, брате, что мы встретились с тобою сегодня, — говорил, задыхаясь от быстрой езды, старший из них, по одежде писарь Запорожского войска. — Если бы завтра, было бы уже поздно!
— Я боюсь, что и так мы опоздаем к служению, Богдане, — ответил собеседник, одетый также в козацкую одежду, с лицом сосредоточенным и серьезным и с легкою сединой, пробивавшейся уже в темных волосах. — Служение в монастыре начинается рано, а здесь до Печер еще добрых четыре версты.
— Какое! — махнул рукою первый, нервно подергивая повод и сжимая острогами коня. — Вот спустимся с этой горы, а там через овраг и Пустынно—Николаевский монастырь, — оттуда уже и рукою подать.
Спутник его молча пришпорил лошадь. Несколько минут слышались только частые удары копыт о замерзшую землю.
— А хоть бы и поспели, мало надежды у меня, — произнес козак, глядя угрюмо в сторону. — Как я просил ее, для меня она все равно что вот половина сердца!.. Э, да что там! — махнул он рукою и понурил голову.
— Стой, брате, меня послушает. Бог не без милости, — ободрил товарища Богдан, то и дело приподымаясь в стременах и припуская коню повода. — Есть у меня ее слово… тоже обет… Теперь настало время, и я верю, что она его не сломает.
— Дай бог, — произнес серьезно товарищ. — Нас с нею только двое, Богдан{61}.
Разговор прервался. Кони между тем взобрались на лесистую гору и поскакали уже по ровной дороге. Направо тянулись обрывы, покрытые все тем же лесом, налево блеснули из–за деревьев кресты и купол Никольского монастыря.
Вдруг в воздухе прозвучал явственно протяжный удар колокола. Путники вздрогнули и молча переглянулись: по лицу второго пробежала какая–то мучительная судорога.
— Вот и монастырь, — указал Богдан на показавшиеся между деревьев стены и башни, желая ободрить своего товарища, — теперь до Печер полгона…
Но спутник не ответил ничего; на его темном, угрюмом лице вспыхивал теперь пятнами румянец; глаза с нетерпением впивались в даль, стараясь разглядеть среди стволов деревьев очертания печерских стен. Лошади словно понимали состояние своих господ: они неслись теперь во весь опор, обгоняя по дороге горожан в грубых деревянных санях, козаков и богомольцев, поспешавших в Печеры. Лес начинал редеть… Вот наконец показались и стены печерские, из–за них ослепительно блеснули купола Печерского и Вознесенского монастырей. Миновавши браму, всадники поскакали по широкой и прямой улице и остановились у въездных ворот Вознесенского монастыря… Прямо против них находилась и лаврская брама. Народ толпился у нее массами, ежеминутно заглядывая вовнутрь монастыря.
— Слава богу! — воскликнул Богдан, осаживая взмыленного коня и бросая поводья на руки подскакавшего козака, — служение еще не началось: ждут владыку.
Спутник его ничего не ответил. Несмотря на угрюмую и суровую наружность козака, он казался настолько взволнованным, что решительно не мог говорить. Молча соскочил он с коня и вошел вместе с Богданом в монастырский двор.
Во дворе было уж шумно и людно. Толпы богомольцев стремились в открытые двери храма; монахини шли строгими рядами, опустивши головы и закрывши лица черными покрывалами, с длинными четками в руках; только молоденькие послушницы, с бледненькими личиками, украдкой выглядывали на прохожих из–под своих аксамитных шапочек. Торопливо прошли козаки среди богомольцев и остановились у маленькой кельи с завешенными окнами…
В келье старичок священник, скрестив руки на темноволосой голове девушки и поднявши к иконе глаза, шептал молитвы старческим, разбитым голосом. В келье было так тихо, что пролети муха, слышен был бы удар ее крыл. Голова молодой девушки пряталась в складках рясы старика; бледные губы ее тихо шевелились, и если б он мог услыхать то беззвучное слово, которое шептали они, — то услышал бы: «Прощайте, прощайте… прощайте навсегда!»Наконец старик окончил свои молитвы и, произнесши вслух: «И ныне, и присно, и во веки веков», хотел уже благословить белицу, как вдруг сильный нетерпеливый удар в двери заставил его оборваться на полуслове.