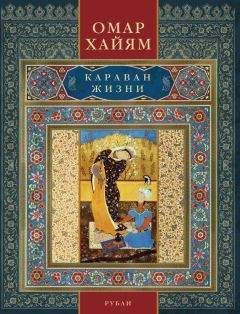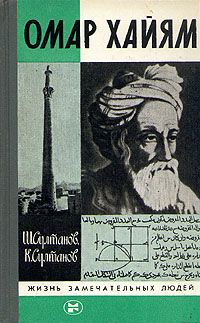Бернгард Келлерман - Гауляйтер и еврейка
Фабиан не мог выговорить ни слова и только кивал — так он был поражен.
Шарлотта обхватила его шею своими нежными руками с силой, которой он не предполагал в ней, притянула его голову к своему лицу и решительно поцеловала в щеку. Затем она вскочила и громко расхохоталась.
— Вы все еще не боитесь моей красоты? — воскликнула она. — Нет? Ну, давайте начнем наш праздник.
И позвонила официанту.
Праздник длился до рассвета, и, расставаясь, они уже говорили друг другу «ты».
С того вечера они стала неразлучны. Их часто видели вдвоем в машине. Шарлотта заезжала за Фабианом в Бюро, по воскресеньям они отправлялись за город. Так, словно молодожены, провели они вместе прекрасное лето.
Однажды Фабиан даже взял ее с собой в Берлин, куда он на неделю отправился по делам службы. Красота Шарлотты очаровывала всех. Разговоры смолкали, когда она проходила мимо. Ее успех льстил Фабиану.
Впрочем, он замечал, что она не остается равнодушной ко взглядам восхищающихся ею мужчин. Она широко раскрывала глаза и улыбалась особенной улыбкой — более живой, даже одухотворенной, а иногда более нежной, чем обычно. И смех ее тоже менялся: он звучал громче, победнее, но зато часто казался и деланным, искусственным. Что же касается восхищенных взглядов, которые бросали на нее женщины, то она их просто не замечала. Женщины для нее не существовали.
И вдруг все кончилось.
Однажды долговязый Фогельсбергер с белокурой шевелюрой явился в «Звезду», где они обедали, я обратился к Шарлотте со словами:
— Сударыня, честь имею сообщить вам, что завтра утром в одиннадцать вас будет ждать самолет.
Шарлотта побледнела.
— Самолет? — едва выговорила она.
— Гауляйтер в свое время доставил вас сюда на самолете, — с такой же вежливой улыбкой продолжал Фогельсбергер, затянутый в черный мундир, — и теперь считает своим долгом тем же способом доставить вас домой. Мне дано почетное поручение сопровождать вас до Вены и высадить на венском аэродроме. Таков приказ.
Глаза Шарлотты сверкали. Она все еще была бледна.
— А если я откажусь от этого самолета? — спросила она.
От удивления Фогельсбергер лишился дара речи. Он с улыбкой взглянул на Шарлотту. Она бесконечно нравилась ему. Он был один из немногих, видевших ее в день рождения гауляйтера, когда она танцевала голая на столе красного дерева. На ней было лишь коротенькое трико, и это поразительное зрелище врезалось ему в память на всю жизнь. Все это он вспомнил сейчас.
Все еще с улыбкой глядя на Шарлотту, Фогельсбергер ответил:
— Как ваш друг и почитатель я не советую вам этого делать. Вы знаете, что я хочу вам добра. Итак, утром, точно в половине одиннадцатого, я приеду за вами. — Щелкнув каблуками, Фогельсбергер удалился.
XVIIВнезапный отъезд Шарлотты был для Фабиана крайне неприятной неожиданностью. Он привык к ней и не забывал, что она, сама того не зная, помогла ему пережить трудную пору.
Впрочем, к собственному удивлению, он не был огорчен тем, что она уехала, не ощущал тоски или боли. Наоборот, ему стало легче, привольнее. Шарлотта принадлежала к людям, о которых забывают, едва только за ними захлопнется дверь. После нее осталось лишь воспоминание о ее красоте.
«Одной красоты, значит, недостаточно, — думал он, одиноко сидя за бокалом вина в „Звезде“. — В человеке мы любим совсем другое». Вспоминая о Кристе, он почти стыдился, что отдал так много времени Шарлотте, женщине, которая стояла настолько ниже Кристы.
Временами трудно бывало не замечать за красотой Шарлотты ее пустоты и самомнения. Красота стала для нее проклятием: к людям она подходила с одной лишь эстетической меркой, не интересуясь их моральным и духовным обликом. «Говорят, что моя красота околдовывает мужчин»; «говорят, что мой смех возвращает к жизни даже мертвых». Ему вспоминалось много таких изречений Шарлотты.
Для нее самой ее красота стала центром мира, вокруг которого вертелось все. У нее было лишь одно желание — чтобы на нее молились, чтобы ее боготворили. Мужчина должен был стать ее рабом и слугой, замечать только ее и видеть цель своей жизни только в поклонении ей.
Ему вспомнилась также надменность, с которой она судила о женщинах, на ее взгляд недостойных внимания. Как часто он резко осуждал ее самомнение. Теперь он не мог без смеха вспомнить некоторые ее замечания. Когда, бывало, мимо проходила полногрудая дама, она говорила: «Будь у меня такая грудь, я покончила бы с собой». О женщине с большими ногами она сказала: «Лучше отрубить себе пальцы топором, чем ходить на таких ногах».
— Итак, прощай, Шарлотта, — сказал Фабиан и поднял бокал.
Уже прошло три дня, как она уехала, и нельзя было сказать, чтобы Фабиан очень горевал.
Впрочем, один вопрос не переставал занимать его. Почему гауляйтер так внезапно отослал Шарлотту в Вену? Тут должна быть какая-то причина. Но как Фабиан ни ломал себе голову, он не мог проникнуть в эту тайну. Наверное, просто каприз гауляйтера.
Теперь этот вопрос снова стал его беспокоить. Уже прошло несколько недель после отъезда Шарлотты, как вдруг гауляйтер без всяких объяснений приказал ему явиться в Айнштеттен. «Неужто он поставит мне в вину, что я так часто показывался с Шарлоттой на людях?» На душе у Фабиана было скверно.
Но Румпф и не вспомнил об этом, да и вообще словом не обмолвился о Шарлотте. В «замке» Фабиану сказали, что гауляйтер ждет его в бильярдной. Он очень удивился, когда оказалось, что Румпф — он был без пиджака и с кием в руке — не один. У бильярда стояла черноволосая молодая женщина с загорелым лицом.
— Эта дама утверждает, что знает вас, — сказал. Румпф, по-видимому, превосходно настроенный.
Фабиан поклонился молодой женщине. В эту минуту она обернулась к нему. Марион! Нет, видно, уж нечему удивляться на этом свете! Однажды он встретил у гауляйтера самую красивую женщину Австрии, а теперь вот — свою хорошую знакомую, еврейку.
— Марион! — радостно воскликнул удивленный Фабиан.
Румпф громко расхохотался. Такого рода сюрпризы были в его вкусе.
— Да, это я, — приветствовала Марион Фабиана. Она засмеялась своим звонким, задушевным смехом и вся залилась краской смущения. — Вы видите меня здесь в двойной роли, — сказала она, — учительница итальянского языка и ученицы, обучающейся игре в бильярд.
Румпф все еще раскатисто смеялся, намазывая мелом свой кий.
— Вы только посмотрите на эту девушку! — воскликнул он. — Ведь ее слова звучат как извинение. Можно подумать, что у меня с ней шашни завелись.
Марион покраснела еще сильнее. Она не удостоила Румпфа взглядом и снова занялась бильярдными шарами.
А Румпф, все еще продолжая смеяться, обратился к Фабиану:
— А ведь на самом деле я еще никогда не подходил к ней на более близкое расстояние, чем к вам, — сказал он. — Фрейлейн Марион действительно дает мне уроки итальянского языка. Но я совершенно не способен сидеть за столом как послушный школьник. Вот мне и пришла в голову мысль: нельзя ли соединить болтовню по-итальянски с игрой в бильярд? Представьте, это оказалось возможным. Или нет, professora[10]?
— Ессе Lentissimo commodore[11]! — откликнулась склонившаяся над бильярдом Марион.
— Professora и commodore, — пояснил Румпф, — так мы друг друга титулуем. Вы удивитесь, — продолжал он, — успехам, которые фрейлейн Марион сделала за такое короткое время. Просто невероятно! Скоро мне уже не придется давать ей фору.
Фабиан наблюдал Марион за игрой. Она в самом деле играла отлично. Прекрасная теннисистка, она, конечно, с легкостью научилась играть в бильярд, требовавшей быстроты глаза и физической ловкости.
В это мгновение Марион, низко склонившаяся над бильярдом, ударила мимо лузы, покачала головой и громко рассмеялась.
— А ведь это труднее, чем кажется! — воскликнула она.
— Вам не удалось срезать шар, вот и все, — заметил Румпф. — Ну, а теперь, professora, сделаем небольшой перерыв и. выпьем чаю. Прошу вас, пройдемте сюда.
В одном из углов бильярдной на возвышении была устроена ниша для зрителей и гостей; сейчас в этой нише был сервирован чай.
— Дорогой друг, — с улыбкой обратился гауляйтер к Фабиану, — вы сердцевед и уж, наверно, давно заметили, что Марион привлекла к себе все мои симпатии.
— Commodore, — сказала, смеясь, Марион, — по-видимому, я мешаю вам и гостю.
— Очень трудно не считать Марион крайне симпатичной, — убежденно сказал Фабиан.
— Трудно? Вы говорите — трудно? — подхватил Румпф. — Уверяю вас, это невозможно. И тем не менее, клянусь вам, что я ни разу не решался даже руку ей поцеловать, до того она чопорна и неприступна.
Марион что-то весело возразила ему.
А Румпф продолжал смеяться.
— Да, чопорна и неприступна! — повторил он. — А кроме того, к ней еще и опасно приближаться, — закончил он.