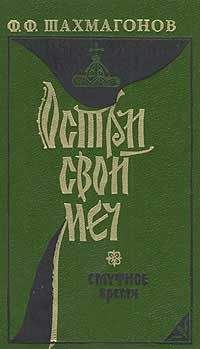Юрий Когинов - Татьянин день. Иван Шувалов
— Вяжи вору руки и на подводу его! — услышал он приказ старшего стражника.
Только когда пришёл в себя уже в новом чьём-то дому, решился:
— Поклёп на меня. Я не тот, кем меня обзываете. Я с той стороны, — показал рукою на заход солнца. — И дело у меня важнейшее к таким знатным боярам, каких вы, подлые, ни разу в глаза не видели. Развяжите мне руки!
В горнице, кроме старшего стражника, коий вёз его с хутора, было ещё двое — тоже, видать, начальство.
— Ах, ты ещё над нами вздумал куражиться? — закричали оба враз. — За дураков нас принимать взялся? А ну, сдирайте с него порты. Всыпать ему с десяток горячих!
Повалили навзничь, стали сдирать порты. И тут из карманов посыпались золотые монеты.
— А ещё говорит: не вор. Да ты, голубь, убивец, наверное. Признавайся, сколько и кого из купеческого сословия порешил по дороге? Колодки на него, живо!
Однако, пока волтузили Зубарева на полу, толи развязалась, толи перетёрлась верёвка, скручивавшая руки. Он вывернулся из-под толстого конвоира, усевшегося уже верхом на его спине, и вскочил на ноги.
— А ну, кто из вас смелый — подходи. Мигом порешу. Не купцов, а вас возьму грехом на душу, коли поклёп на меня такой учинили!
Мигом отпрянули к двери. Но кто-то схватил ружьё и щёлкнул курком. И тогда Зубарев что есть силы завопил:
— Слово и дело! Везите меня в Тайную канцелярию. Не к вам, подлые, а к властям имею что сказать. Дело важнеющее, государственное!..
Верно, никто не входил в следственную избу столичной Тайной канцелярии с таким облегчённым чувством, как Иван Зубарев после непростой своей одиссеи.
«Счас всё разом образуется, — твердил он себе, даже не чувствуя на сей раз боли, причиняемой ножными колодками. — Вот счас введут в избу, присяду к столу и — всё кончится так, как и следует моему делу завершиться. А потом уж придёт и обещанное — императрицын указ о моём производстве в офицерский чин, а значит, и в благородное дворянское сословие. Только одно имя стоит назвать — его сиятельство граф Гендриков Иван Симонович. Там-то, в Полесье, мне ни к чему было бахвалиться и выдавать чужие секреты. А тут — в самый раз. Тута и начался как раз поворот в моей судьбе. Однако поначалу и здеся не сразу, видно, надо графа называть. Пусть направляют в Москву, где мы попервости с ним свиделись — в его подмосковной. А лучше-ка я сразу того, к кому меня приведут, огорошу — выну секретные медали».
Как и два года назад, в предбаннике пыточной Зубарева встретил полумрак, в нос шибанул кислый запах мокрой овчины, людского пота и крови. Кого-то, видно, пытали на дыбе аккурат до того, как и пред ним открылась дверь в сию преисподнюю.
— Кто таков? — встретил его хриплый окрик.
Говорившего нельзя было разглядеть — фонарь со свечою был повернут к вошедшему, чтобы его можно было хорошо рассмотреть.
— Слово и дело! — прокричал Зубарев и назвался по имени. — Велите меня ослобонить от оков и развязать руки. Имею что до вас довести.
Когда он выложил вынутые из-под стелек две золотые медали с изображением горбоносого лика и вкруг него на чужом, немецком наречии некоторыми словами, тот, кто сидел в потёмках за столом, жадно пригрёб к себе сии золотые кружки.
— Чио сие означает и откуда оне? — Хрип был сухой и колючий.
— То образ принца Антона Брауншвейгского, отца всероссийского императора Иоанна Антоновича, — поспешно проговорил Зубарев. — А они у меня — евонного брата, то есть принца Брауншвейгского тож, Фердинанда.
Казалось, обрушилась сама изба — так грохнул кулаком по столу тот, что сидел в тёмном углу.
— Что? Так ты был там, за кордоном? Это они, вороги, тебя к нам заслали? Отвечай!
«Господи! Да что же это такое? И тут недоверие, и тут ковы супротив меня, — вновь испугался и задрожал Зубарев. — Да как же мне им всё объяснить?»
— У Фридриха я был. У ихнего, значится, короля. А посылали меня к нему их сиятельство граф Иван Симонович Гендриков. Но сие — превеликая тайна. Я вам — как на духу. Но чтобы вы дали знать ему, графу. — Голос Зубарева сдал.
— На дыбу его! Мигом! — прохрипел уже пришедший в себя тот, за столом.
Среди ночи, снятого с верёвок на бревенчатой перекладине под потолком, его окатили из ушата ледяною водой и бросили в угол.
Что говорил он на дыбе, в чём велено было ему признаться, он не помнил. Только вспоминал, как тот, кто допрашивал, кричал:
— Подвысь! Ещё подвысь. А теперь давай угли к пяткам.
В голове всё туманилось. Но когда совсем открыл глаза, увидел вновь ту следственную избу и ощутил себя сидящим на лавке возле неструганого дубового стола с фонарём.
Насупротив — уже не один, а двое. И свету от фонаря поболее, особенно на фигуре и лике одного, с краю.
«Ба, да это же он, граф Иван Симонович! Вот оказия-то. А думалось — не выживу. Как же он про меня прознал, как здесь оказался?»
— Ваше сиятельство, не узнали? — еле разжал окровавленный рот пленник. — А меня тута того...
— Знаю, — проговорил граф. — Сам всё слышал, все твои слова с дыбы. Теперь уверен: всё, что ты говорил, правда.
— Так, выходит, меня... при вас? За что? И как вы не сказали обо мне, о том, что сами же?..
Граф Гендриков встал и сделал два или три шага вдоль стены.
— Ишь как ты просто рассуждаешь! Поручись-де за тебя. А почему мне ведомо, что ты правду баешь? Что тебя там, в Пруссии, не перекупили? Дело, брат, зело государственное, в коем ты теперь замешан. Так что ни мне, ни его сиятельству графу Шувалову особенно в тебе нельзя ни на гран усомниться. Вот почему — и крайняя мера.
«Шувалову, графу? Это тому, кто главный начальник над всею Тайною канцеляриею? Но где же он сам, почему ему сразу не донесли о таком важном случае? — пронеслось в голове Зубарева, и тут же его самого как обожгло: — Да вот же он, второй, предо мною, кто снимал с меня следствие в первый же день и кто повелел меня ночью — на дыбу... Ну и дела!..»
А дела и впрямь развернулись такие, что не приведи Господи. Чрез неделю-другую — Зубарев, пока приходил в себя, потерял счёт дням — его усадили в коляску и повезли в дальний что ни на есть путь. К студёному Белому морю, к городу Архангельску.
Поселили в каком-то дому, недалеко от стоянки кораблей, и каждый день стали водить к причалам, чтобы опознать немецкого капитана, что обязан был приплыть за бывшим малолетним императором. Но немецких судов давно уже не было в Архангельске, а новые не приходили.
Все сроки, о которых уговаривались там, в Потсдаме, истекли. И Зубарева повезли назад, в Петербург.
В Петербурге же в ту пору происходили другие дела. Совсем вроде бы непохожие на те, что шли в Архангельске, но в то же время прямо с ними связанные.
Каждую неделю граф и генерал-аншеф Александр Иванович Шувалов обязан был докладывать её императорскому величеству о том, что происходило по его тайному ведомству.
Петербург веселился, плясал на балах и кружился на маскарадах, и никому в голову не приходило, что можно жить как-то по-иному — в заботах или страхе. Откуда и почему? — удивился бы, наверное, каждый, кого вздумалось бы огорошить подобным вопросом. И только той, кто более всех, не ведая ни усталости, ни разочарования, до упаду плясала в своём дворце, нет-нет да приходили в голову чёрные мысли: а что, если вдруг...
О заговорах давно уже ничего не было слышно. И если бы кто-то что-то и удумал, старший из Шуваловых тут же бы непременно вывел на чистую воду злоумышленников и они бы, как, к примеру, Лопухины, оканчивали свой век в глухих и безлюдных местах.
Так что некого и нечего было опасаться. И всё же чёрные мысли приходили в голову, особенно когда, уже под утро, отплясав или отыграв среди весёлой компании в карты, она уходила в свои апартаменты и готовилась соснуть уже в наступающем, чуть брезжущем утре.
Что мнилось ей, императрице Елизавете, весёлой и с виду такой беззаботной и всецело довольной собственной жизнью и жизнью её окружающих самых близких персон? Ужас и мрак? Наверное, сие будет слишком сильно сказано. Подкатывала вдруг, ни с того ни с сего, какая-то неясная тоска, а за нею уже и это чувство, сначала отдалённо напоминающее страх, а потом уже — и саму обречённость.
А начиналось всякий раз с одного и того же видения. Она на руках с младенцем в спальне её высочества, бывшей правительницы российской. Младенец тих, он даже улыбается, и на глазах его — ни слезинки. Но она-то знает, что с этого мгновения он обречён. Как и что с ним и его родителями произойдёт, она ещё не ведает. Но чувство подсказывает ей: это она — виновница его и их несчастий. Только разве она виновата в том, что именно у неё украли когда-то престол, ей от рождения предназначенный.
Даже в сером свете утра, когда ночные тени уже отступали прочь, она всё-таки не могла оставаться одна в четырёх стенах. Маврутка и другие статс-дамы и фрейлины вместе с горничными её раздевали, без умолку с ней говорили, рассказывая всяческие небылицы, но сон всё не шёл. Тогда на смену статс-дамам приходили те, кого в эти часы она особенно любила видеть вкруг себя, — те, кто нежно гладил её ноги и, что было особенно приятно, почёсывал пятки, вызывая сладостное ощущение. И при этом те, кто её нежил и чесал, рассказывали ей сказки, что она особенно любила слушать ещё с детства.