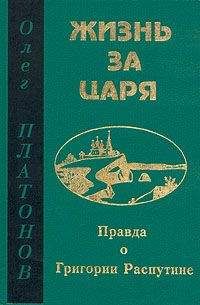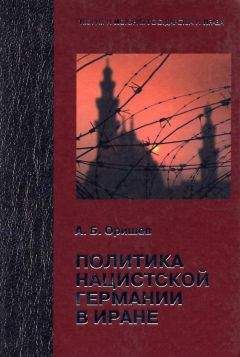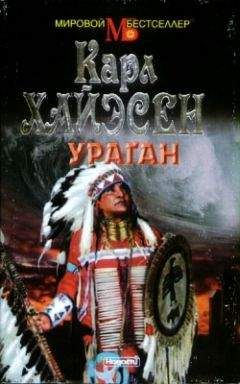Теодор Парницкий - Аэций, последний римлянин
Все пятеро отлично сознавали, что неожиданному возвращению сенатом давно утраченного им значения и влияния они обязаны единственно тому, что в заключительном периоде борьбы между Плацидией и Аэцием высказались за бывшего главнокомандующего. Хорошо знали они и то, какие блага приносит сенаторскому сословию союз с патрицием — союз, направленный против императорской власти, любое ослабление которой тут же вызывает усиление мощи сената!.. Так что прибывшего в курию после четырех лет отсутствия Аэция встречали действительно радостно и искренне, чествуя в нем не только могущественного и полезного союзника, но и прежде всего свое великолепное настоящее и свои гордые упования на еще более блистательное будущее…
Остальные отцы города — в основной массе не посвященные своими предводителями во все подробности и нюансы истинного существа союза с патрицием — бурно рукоплескали, видя в шагающем по курии человеке великого и удачливого полководца своего века, могущественного защитника римского мира и целостности империи, грозного покорителя врагов Рима, с деяниями которого даже и сравнивать нельзя то, что свершили Бонифаций, Кастин, Констанций, Стилихон и даже он сам — тот давний Аэций периода битвы под Аримином, о которой, впрочем, никто из сенаторов уже и не вспоминал… «Ну что такое, — думали они лихорадочно, — его старые победы над готами, франками, норами и ютунгами в сравнении с достопамятными деяниями, которые он свершил в последние годы, будучи патрицием империи?! Что, например, можно сравнить с полным уничтожением грозной мощи бургундов?.. Или эта последняя готская война?! Или благоденственный для империи союз с королями гуннов Бледой и Аттилой?! А Гензерих, еще четыре года назад такой опасный, грозный и страшный?! Бесчинствует, конечно, как сущий диавол, в захваченных провинциях; грабит римлян и преследует правоверных, лишил даже жизни — проклятый! — святых епископов Поссидия, Новата и Севериана, изгоняет и забирает имущество у чиновников, которые не хотят признать учение Ария, — и все же не смеет нарушить границ, определенных Тригециевым миром — так боится Аэция!..»
Но не одного патриция империи бурно чествуют славные мужи. Почти с таким же жаром встречают всех, кто его сопровождает, кто сверкает, как звезды при луне, следуют за ним, как волчата за могущественной кормилицей Ромула и Рема, как на старой картине — пантеры за львом… «Как ветры за Эолом» — думают Симмахи и Вирии. «Как Маккавеи за Иудой», — шепчут в восторге Паулины, Гракхи, Аниции. Сенаторы показывают на них пальцами, да, почти все они тут, кто вот уже долгие годы делит славу с непобедимым и слили свою судьбу с его величием. Вот он, по правую руку Аэция, шагает гот Сигизвульт. Нет, не разочаровался он в том, кому столько помог при возвращении из изгнания, не может пожаловаться на неблагодарность, поистине царски награжден. Варвар, арианин — стал консулом!.. И в один год с Аэцием, в торжественный для Западной империи 437 год, когда обрел совершеннолетие император Валентиниан, а император Восточной империи, дабы ознаменовать это событие, уступил в пользу Западной империи честь назначить на этот год и второго консула… Но как будто еще мала показалась Аэцию и эта великолепная награда Сигизвульту — и он поделился с ним своим титулом главнокомандующего!
Указывали сенаторы и на рыжую голову Андевота, и на растрепанную бороду Марцеллина, которому, как собрату по вере, с особенным рвением рукоплескали Вирии, Симмахи и Деции. Правда, не шел подле Аэция преданный и любимый друг — Кассиодор, но все знали, что первый взгляд патриция устремился к третьему ряду курульных кресел, где почетное место занимал давний его соратник, ныне сенатор, — и «Ave, Cassiodor!» загремело с таким жаром, как будто бы тот с утра не сидел в курии. Зато напрасно высматривали глаза славных мужей Астурия: комес Испании вел ожесточенные бои в Бетике, подавляя восстания крестьян — багаудов, поддерживаемые королем свевов. Зато другой испанец следовал сразу же за Аэцием; еще молодой, но уже прославленный оратор и поэт, да к тому же еще комес — Меробауд, панегирики которого на долгие века делали бессмертными деяния Аэция. Не было в курии сенатора, который бы по десять, а то и больше раз не прибегал к кодексу од Меробауда, особенно к тем, которые воспевали свадьбу Валентиниана с Евдоксией и второе консульство Аэция. Ведь нигде — так казалось почти всем сенаторам — не найти столь прекрасного описания войны, как воспеваемые Меробаудом исторические сражения патриция со все более грозными для империи бургундами, дерзкие короли которых то и дело нападали на римские владения из своей мощной крепости Барбетомаг на Рене. Одни галльские легионы вряд ли справились бы с многочисленными и храбрыми бургундами, но разве у Аэция, помимо крепкой руки, нет еще достойной любого мудреца головы?.. Так вот, он склонил к совместному походу младшего из гуннских королей Аттилу и вместе с ним, не ожидая, пока враг сам выйдет из своих владений, с такой яростью обрушился на бургундов, что двадцать тысяч их воинов легли на поле битвы, а среди них и король Гунтер…
И еще одного из прославленных товарищей Аэция не увидят глаза славных отцов Рима: начальника конницы Литория. И все знают: только потому, что они не видят Литория, они могут созерцать вот уже четыре года не виденного сиятельного Аэция. Ведь одному только Литорию доверяет Аэций как самому себе и на него одного может оставить дальнейшее ведение войны с готами. Хотя патриций и находился столь долгое время за пределами Италии: долгое время не совещался с императором и сенатом, не садился за пиршество вместе с италийскими друзьями, не разделял ложе с супругой, — но, несмотря на все, и теперь не покинул бы Галлию, не питай он безграничное доверие к командующему всей конницей Западной империи. Ведь имя Литория вот уже два года громким эхом прокатывалось по всей империи. Когда в год совершеннолетия императора король Теодорих осадил Нарбон, Аэций, измотанный тогда немощью и горячкой, доверил Литорию командование над гуннскими отрядами, которые должны были выйти на помощь осажденному городу. Начальник конницы устремился к Нарбону с быстротой, которой мог бы позавидовать сам Аэций, а когда узнал, что осажденные уже выпускают из немеющей руки оружие, падая без сил, и до такой степени истощены от голода, что город вот-вот без сопротивления откроет ворота Теодориху, то велел каждому из своих всадников взять на коня пехотинца и два вьюка с припасами и обрушился на готов, пробился сквозь их плотные ряды, проник в город и, оставив нарбонцам свежий гарнизон и обильные припасы, повернул конницу против, осаждающих и нанес им страшное поражение! Не удовлетворившись одной этой победой, он двинулся в погоню за быстро отступающим Теодорихом и вторгся в пределы провинций, девять лет назад отданных готам. И вот теперь уже второй год, как Литорий пядь за пядью отнимает у Теодориха все новые земли Аквитании, отданные ему по миру, заключенному после битвы на Колубрарской горе, по тому миру, который король нарушил, осадив Нарбон. Поэтому никого не удивляло, что патриций говаривал: «Когда Литорий бдит, Аэций может спать». «Спать с женой…» — с улыбкой добавляли обычно сенаторы; поэтому сейчас удивлению их не было границ, когда они узнали, что сиятельный Аэций прямо с Фламинской дороги направился в курию, даже не повидавшись с женой. Поэтому с такой радостью, с таким жаром и приветствовали его… Ведь они с самого рассвета ждали его прибытия, заполнив курию так, как этого уже давно не случалось: сто сорок сиятельных, триста достопочтенных и семьсот достосветлых! Даже префект города Флавий Паул, который ежедневно проклинал бессмысленную, по его мнению, традицию, объединяющую в одном лице префектуру с председательством в сенате (потому что он не выносил речей), без сожаления сменил сегодня свой любимый зеленый далматик на освященную обычаем тогу, которую не умел носить, и приготовил приветствие.
А черноволосый юнец в пурпуре и с диадемой на голове до самой последней минуты пребывал в приятном заблуждении, что потому-то в сенате такая давка и такое праздничное настроение, что все illustres, spectabiles и clarissimi как можно скорее стремятся принести ему свои поздравления по случаю того, что Христос вторично изволил благословить священное лоно семнадцатилетней Августы Евдоксии. Поэтому совсем не удивился стоящий по правую руку от императора викарий города Рима Юний Помпоний Публиан, когда, взглянув искоса на императора, без особого труда уловил, с каким именно чувством смотрят на приближающегося Аэция выпуклые глаза — черные, как маслины, и оттененные такими же черными, изогнутыми бровями, на которых, как на архивольте, покоился высокий Констанциев лоб.
2С лихорадочной торопливостью направляясь в спальную комнату, Пелагия все еще думала о поучениях Константинопольского патриарха Иоанна Златоуста, писаниями которого последнее время зачитывалась. Как же она была благодарна святому отцу за его смелое требование равности для мужчин и для женщин там, где дело касалось вопросов тела: поистине только глупцы и безбожные язычники и еретики могли толковать слова Иоанна так, будто он домогался для женщин права изменять мужьям, чтобы сравняться с мужчинами в их неверности своим женам. Нет, Пелагия знает, что мудрейший патриарх, большой знаток людских сердец и человеческой природы, отлично понимал, что они — женщины — отнюдь не хотят изменять своим мужьям и не жаждут свободы распоряжаться своим телом, а взыскуют только того, чтобы, так же как им, всегда достаточно законного мужа, так пусть и мужу этому на всю жизнь довольно будет одной женщины. «Вот истинная христианская супружеская равноправность!» — произнес с амвона сорок лет назад Иоанн Златоуст, и эти самые слова повторяет теперь мысленно Пелагия, переступая порог кубикула. Она и обижена и счастлива: почему это она должна четыре года сохнуть с тоски по мужу, пожираемая жестоким голодом любви, а Аэцию можно спать с готскими, франконскими, бургундскими пленницами и еще похваляться, скольких девственниц они с Либаудом лишили невинности после победы над Гунтером?! Ей всегда хочется смеяться, когда она слышит, что мужчине труднее выдержать без женщины, чем жене без мужа, но она понимала, что не может требовать от Аэция, чтобы он годами жил, как египетский пустынник или евнух. И потому говорила ему: «Возьми меня с собой в Галлию!» Он же на это только смеялся: «С женщинами на воину не хожу. Я не Бонифаций!» И ничуть не помогало тысячекратное: «Где ты, Кай, там и я, Кайя». Но почему же такая несправедливость?.. Больше обиженная, чем счастливая и голодная по любви, она старалась быть в постели равнодушной, холодной и даже делать вид, что у нее нет желания. Но тут же с каким-то беспокойством спохватывалась, не покажется ли ему ее тело увядшим, постаревшим, менее притягательным… Ведь Аэций как будто вовсе не интересовался телом, которое быстро, ловко обнажал.