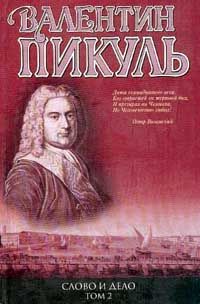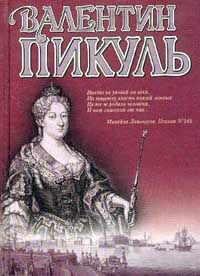Питер Грин - Смех Афродиты. Роман о Сафо с острова Лесбос
Но, вчитываясь теперь в эти четыре страницы избитых фраз, я почувствовала в них напряжение и смущение, будто она пытается скрыть свои истинные мысли. Это было до того не похоже на тетушку Елену, что поначалу я отказывалась этому поверить. Прочтя последнюю страницу до середины, я дошла до строк, где она писала с наигранной небрежностью: «Я надеялась сообщить тебе более приятные новости — новости, которые ты так долго ждешь. Но тут произошли всяческие осложнения, и власти упрямятся». Вот все, что она написала по поводу моего изгнания, а следующая фраза показалась и вовсе до предела туманной. Она была приписана после подписи, словно эта мысль осенила тетушку Елену внезапно: «Тот, кто доставит тебе это послание, может оказаться очень полезным тебе в Сиракузах. Вообще-то я держусь правила: не следует покупаться на человеческое обаяние, лучше держать ухо востро. Но Церцилу из Андроса, как никому из мужчин, удалось убедить меня, что обаяние — вовсе не обязательно маска мошенника». Я улыбнулась, прочтя эту приписку.
Третье письмо было от матери. Почерк размашист, слова то вразброс, то наезжают друг на дружку, порой вообще с трудом поддаются прочтению. Но вчитываешься — и нежданно-негаданно для себя открываешь, какой там кладезь изощренного ума и ехидных историй. К своему удивлению, я получила от них большое удовольствие. Они открыли мне ту грань натуры моей родительницы, которую я не замечала прежде, когда мы были вместе. По несчастью, если мы и пытались притереться друг к другу, то только путем поиска в противоположной стороне черт характера, сходных со своими. На все остальное наши глаза были закрыты. Когда же мы начали прозревать, было уже — хоть я и не понимала этого — слишком поздно. Слишком поздно! Эти два безнадежных, роковых слова опять и опять встают на моем жизненном пути.
«Судя по тем новостям, что до нас доходят, — писала она, — тебя в Сиракузах носят на руках. Пусть это не вскружит тебе голову. Или, что было бы еще хуже, не вселит гордыню в твое сердце. О сиракузских греках не напрасно ходит добрая слава, в этом ты, без сомнения, сумела убедиться сама. Так что я надеюсь, что Ликург проявит большую заботу о твоем благополучии, чем прежде его сестра».
(Как странно звучат теперь эти строки — голоса из прошлого, лишившись смысла прежде, чем достигли получателя, стали ироничными пометами на полях уже свершившегося будущего!)
«А что до тетушки твоей Елены, то она вызвала форменный скандал. Могут мне сказать: прояви милосердие, не ее вини — вини пору, в которую вступила ее жизнь. Но как вспомнишь о ее прошлом… Как бы там ни было, сорокашестилетняя женщина, жадно ищущая плотских утех, выглядит, по меньшей мере, отталкивающе, не говоря уже о том, что подвергается всеобщему осмеянию. И при всем этом — ни малейших попыток скрыть, не говоря уже о том, чтобы сдержать свои желания!»
(Голоса из прошлого. Голоса из потустороннего мира. Эти жестокие слова больно ужалили меня. Теперь они наполнились более глубоким, более личным смыслом. Перечитывая их снова и снова, я спрашиваю себя: не кукла ли я, чьи нитки приводятся в движение мертвыми руками? Не единственная ли причина того, почему я оказалась в изгнании, — боязнь моего дерзкого вызова против ее неукротимого желания крутить всем и вся?)
«Когда юный Археанакс — помнишь такого? — начал ухаживать за Телесиппой, Елена просто-напросто выставила его за дверь. Когда я спросила ее, что она сама думает о своем поступке, она прямо сказала, что такая девушка, как Телесиппа, заслуживает чего-нибудь лучшего, нежели вышколенную девицу мужского пола, да еще с хромой ногой. Да, да. Она сказала именно эти слова.
Он много месяцев был любовником Елены, и об этом знал весь город. Потом страсти поутихли, и можешь себе представить, что было дальше? Он в конце концов взял в жены Телесиппу. Сцена на свадебном пиру была совершенно нелепая — ты была когда-нибудь на свадьбе, где мать невесты — бывшая любовница жениха и большинству гостей об этом известно? Тем не менее все трое выглядели как закадычные друзья, но, с моей точки зрения, это выглядело совершенно неестественно. Но Телесиппа теперь более привязана к Елене, чем была многие годы подряд, — хотя, возможно, на это повлияло то обстоятельство, что она беременна».
(Признаться, читая сейчас эти строки, я чувствую себя неловко. Сколько лет было тогда Гиппию? Пять? Шесть? А Клеиды, доченьки моей Клеиды, тогда еще и вовсе не было на свете. Как же, должно быть, смеются боги, глядя на нас с высоты своего вечного предвидения и знания всего наперед, видя наши жалкие попытки защитить свои иллюзии свободы, самосовершенствования, возможности выбора!)
«Но Елена способна отыскать выход из любого положения. Знаешь, какой прошел последний слух? Что она хочет выйти замуж за Мирсила, и когда я сказала ей, какие вокруг этого крутятся сплетни, она только рассмеялась, не делая никаких серьезных попыток отрицать их.
Сейчас во всех тавернах поют одну крайне непристойную песню — считается, что это песня морских волчков, но о чем в ней речь на самом деле, догадываешься безошибочно. Поется о старой, истасканной долгими шатаниями по морям шхуне с изъеденными червем боками, отломившимся носом и рассохшейся щелью; ничего, вот заберется на нее крепкая, бравая матросня, приладит нос, просмолит брюхо — и снова пойдет она шататься по волнам, пока не напорется на риф и не пойдет ко дну подобру-поздорову. Такая непристойная чушь вполне достойна пера твоего друга Алкея — злые языки говорят, что он и сочинил ее, хотя в действительности это едва ли так — насколько мне известно, с тех пор, как он запропастился в Египте, о нем нет ни слуху ни духу».
Перечитав слова моей матушки, я вспомнила, какое обещание взяла с меня тетушка Елена после того, как мы побывали в храме Афродиты. «Что бы ни случилось, — сказала она, — не суди меня слишком строго. Постарайся понять». Что ж, я держала свое слово. Жизненный опыт научил меня искусству понимать. Он также отнял у меня право и желание судить. Но тогда, сразу после смерти Хлои, когда я сидела одна в ее тихом белом доме, где еще витал ее дух и не остыло ее тепло, мне трудно было вспомнить о данном слове и еще труднее — сдержать его. Но я постаралась. Я тогда с горечью подумала: «Так вот, оказывается, почему она написала такое странное письмо». И еще: «Что бы она ни творила, это не повлияет на наши с ней отношения. Все мы неизбежно — те, кто мы есть, такими и останемся».
«Но если Елена и в самом деле выйдет замуж за Мирсила, — продолжала мать, — то я могу сказать только то, что это будет более чем подходящая друг другу пара. Этот старый похабный сатир имел нахальство и мне докучать своими шутками. Принимая во внимание занимаемую им должность, я едва ли могла надеяться, что навсегда отошью его, — а когда нам случилось оказаться наедине, он принялся тискать меня, как некий развратный мальчишка, прислуживающий в таверне. Но тем не менее я держала себя так, что лишила его мужества довести задуманное до конца. Общественное мнение даже сегодня готово считаться с тем, что происходит в Митилене. Но когда я думаю, что все наше будущее зависит от сего отвратительного создания, — скажу тебе, что я почти завидую твоему изгнанию на Сицилию!»
Сообщение меня чрезвычайно насторожило. Оно показалось мне почти столь же туманным, как и более явные недомолвки тетушки Елены. Мать, очевидно, знала, что поведение этой последней было по крайней мере отчасти главной причиной моего столь продолжительного изгнания. Видимо, она, как могла, пыталась извиниться за свою сестру. Весь рассказ о ее отношениях с Мирсилом показался мне абсолютно лживым; но если это и в самом деле ложь, что же случилось в действительности? Чем больше я читала, тем меньше во мне оставалось четкой ясности. Правда, прежде столь ярко запечатлевшаяся в моем сознании, теперь стала отступать, окутанная туманом двусмысленностей, сдерживания и некоей особой мольбы. Действительность неадекватна моему представлению о ней. Под внешней поверхностью затаились химеры.
«Если я покажусь тебе, — а подозреваю, что так оно и есть, — слишком угрюмой и жалующейся на все на свете, спиши это на мое нездоровье. Я не буду пускаться в малоприятные подробности, но я страдаю, и притом в острой форме, от того же докучного старческого недуга, что и тетушка Елена».
Это тоже было в высшей степени нехарактерным. Помимо того, что эти слова были искренни, они говорили о желании моей матери сыскать если не извинение, то по крайней мере объяснение своему поведению. Обычно она едва ли придавала значение существованию других людей, не говоря уже о том, чтобы принимать в расчет их чувства. Возможно, она была больна серьезнее, чем подозревала — или готова была признать. В этот миг, признаюсь, меня охватила паника, словно малое дитя. Сколь бы неоднозначными ни были наши отношения, я всегда ощущала ее присутствие в нашем митиленском доме, она виделась мне символом стабильности среди нескончаемых перемен, воплощением родного очага.