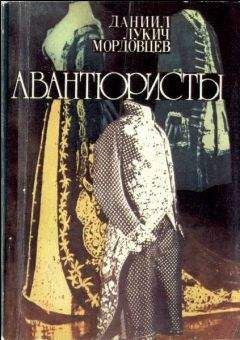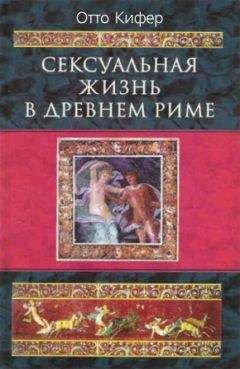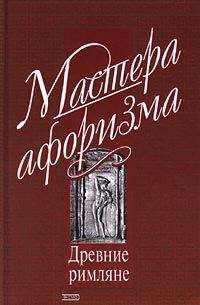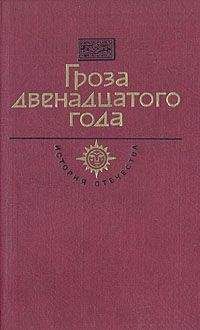Даниил Мордовцев - Царь Петр и правительница Софья
— Что, государь? — спросил Лефорт.
— Жизнь человеческа коротка, вот что! Аки цвет сельный, скоро отцветет и иссохнет: не доживу я, чтобы видеть плоды рук моих.
— Помилуй, государь! Тебе жить многая лета!
— Мало, Франц! Я хотел бы, чтобы в сутках было сорок восемь часов, сто часов! И то всего не переделаешь… Ты видел, как растет ветла?
— Как не видать, государь, видел.
— А как?
— Скоро растет, легко: воткнул в сырую землю кол, и растет…
— А видел, как дуб растет?
— О, государь, дуб растет туго.
— То-то же! Россия — дуб, да только еще не посаженный, одни желуди, что свиньи едят. А я хочу посадить эти желуди, чтоб дубы выросли. Когда-то их дождешься!
Прощаясь с Лефортом, он сказал:
— Приходи завтра пораньше.
— В Кремль прикажешь, государь, «на верх»? — спросил Лефорт.
— Нет, — отвечал Петр с неудовольствием, — приезжай в Преображенское.
— До света буду, государь.
— Добро… Увидишь, как я буду желуди сажать.
— Слушаю, государь.
Лефорт действительно явился чуть свет. Царь уже был на ногах. Лефорт застал его в рабочем кабинете в глубокой задумчивости стоящим перед моделью корабля.
— А это ты, Франц!
Лефорт поклонился. Царь продолжал стоять в прежней задумчивости.
— Не спалось мне сегодня, — сказал он, отходя от модели.
— Что так, государь? С дороги?
— Нет… Все облак сумнения перед глазами носится.
— В чем же сумнения, государь?
— В чем! А разве ты забыл, что мы видели там, в чужих землях, и что у нас.
— Что же, государь, будет и у нас все.
— Будет! Легко сказать! Теперь я еще больше вижу, что не дубы приходится мне сажать, а пальмы. Кто пальму сажает, тот никогда не доживет до фиников… Я это давно говорил, а теперь и пуще того: финики — это наш флот!
— Как же, государь, а не этим флотом ты добыл Азов?
— Азов! Что Азов! Моря у нас нет.
— И море, государь, будет…
Весть о приезде царя давно облетела Москву. Чуть свет все спешили в Преображенское. Раньше других явились Шеин и Ромодановский. Петр принял их ласково.
— Читал, читал ваш розыск, и челобитную о бороде читал, — сказал он после осведомления прибывших о здоровье царя.
— Это, государь, черничок челобитья, — заметил Шеин, — оно, видно, не дописано, не успели.
— А знаете, кто их соучастники? — спросил царь, косясь на стол, где лежали ножницы.
— Кто, государь? — спросили оба. — Али мы не доглядели?
— Точно, не доглядели.
И Шеин и Ромодановский смутились.
— Соучастники их вы, — продолжал царь.
— Помилуй, государь, мы не ведаем, про что ты изволишь говорить.
— Про что! А вы помните конец челобитной?
— Помним, государь: слова, может, только запамятовали.
— То-то! В словах-то и сила… Стрельцы пишут: слышно-де, что к Москве идут немцы, и то знатно последуя брадобритию и табаку во всесовершенное благочестия испровержение. Не так ли, Алексей Семенович? — обратился царь к Шеину.
— Точно, государь, это их слова.
— Видишь, бороду выставляют на своем знамени.
— Бороду, государь.
— А царь, видишь, без бороды: выходит, что и царь немец. А вот вы бородачи… Поняли?
— Что-то невдомек, государь.
— Так вот будет вдомек.
И царь подошел к столу, взял ножницы, приблизился к Шеину и моментально отхватил у него огромную прядь бороды.
— Государь! Помилуй! — взмолился старик.
— А! Тебе жаль бороды, а не жаль было тех ста тридцати голов, что ты повесил от Воскресенского вплоть до Москвы! — серьезно сказал царь. — Лучше потерять бороду, чем голову.
И седые пряди падали одна за другою на пол и на шитый золотом кафтан.
— Ах, я дурак! Ах, я ослопина! — послышался в дверях чей-то голос.
Все оглянулись. В дверях стоял дурачок Иванушка и плакал.
— Мы давно знаем, что ты дурак, — заметил Петр, — разве ты этого не знал?
— Не знал, государушка, я думал, что я и тебе умнее.
— Спасибо… Кто же тебя надоумил, что ты дурак-дураком?
— Да ты сам… Я думал, что только умные люди бриты живут, и обрил себя сам.
— И умно учинил… А ты думал, что все бородатые дураки?
— И теперь так думаю.
— О чем же плачешь?
— О том, государушка, что коли бы я сам себя не обрил, так обрил бы меня ты, как вот этих старых дураков бреешь и умными делаешь… Вот бы я тогда и хвастался на всю Москву, что у меня брадобрей — сам царь.
И, оглянувшись назад в первую переднюю, где толпились бояре, придворный дурачок заговорил:
— Идите, идите скорей, дурачки: вас царь всех умными поделает.
Действительно, у всех бояр, которые в это утро представлялись царю, Петр собственноручно пообрезывал бороды. Рука его не поднялась только на самых почтенных стариков, на князя Михайлу Алегуковича Черкасского и на Тихона Никитича Стрешнева.
XVI. Конец старине
Раннее утро 30 сентября 1698 года. День обещает быть ясным, хотя свежим. Москва еще спит. По Красной площади бродят голодные собаки, отыскивая себе корм в мусоре, да вместе с ними бродит и старичок с длинною палкою и жалобным голосом тихо напевает:
Налетели вороны, налетели черные
По людскую кровушку, по стрелецкия головушки:
У воронов, черных воронов
По самыя плечи крылья в кровушке,
По самыя очи клювы в аленькой,
Во кровушке во стерелецкоей.
А стрельчихам плакати, плакати,
А стрельчата сироты, сироты…
Трудно узнать в этом старичке Агапушку-юродивого: так он подряхлел с тех пор, как мы его не видали! Перестав напевать свою зловещую песенку, он садится на какое-то бревно и начинает что-то считать. По направлению взгляда юродивого можно было догадаться, что он считает виселицы, на днях поставленные на Красной площади. Он считает очень долго: да немало же и виселиц!
— Ну и масленицу готовит Москве батюшка-царь, широкую масленицу!.. Надоть и эти качели на бирке зарубить, надоть… Эко синодик-то у меня знатный выйдет, знатный! Двести пять качелей на одной Красной площади.
Он вынимает из ножен, висящих у него за поясом, небольшой нож и начинает вырезывать им что-то на своей длинной палице.
— А вы что, голодные дурачки, ищете? — обращается он к собакам. — Голодны вы? Погодите: может, и стрелецким мясцом разговеетесь.
В Спасских воротах показывается высокая фигура старца с длинными седыми волосами и приближается к юродивому.
— А! Агапушка, Божий человечек! Мир ти, — говорит старец, подходя к юродивому.
— И духови твоему, — отвечает последний.
— Аминь. Что творишь, человече Божий?
— Да вот царски качели считаю.
— Какие качели?
— А вот… Масленица у нас готовится к Филиппову посту.
И юродивый указал на лес виселиц.
— Вижу, вижу, — сказал пришедший. — А у нас-то на Палье-острове сколько таких мучеников проявилось! Три тысящи разом сгорели своею волею.
— Что ж ты сам не сгорел? — спросил юродивый.
— Я то? Ангел не велел: иди, говорит, раб Божий Емельянушка, благовествуй пришествие антихристово.
— А ты был на Преображенском? — спросил юродивый.
— Был, — отвечал фанатик.
Царевна Софья Алексеевна в эти дни лежала больная в задней келье Новодевичьего монастыря, выходившей окнами во двор, к стороне кладбища. Она была уже теперь не царевна Софья, а старица Сусанна, несколько дней тому назад постриженная в монахини по повелению царственного братца за участие в возмущении стрельцов. За это время она очень изменилась и постарела. Куда все девалось! И гордая осанка, и повелительный взгляд, и плавность движений — все заменилось чем-то старческим, дряхлым: вместо мощной царевны — это была убитая горем черничка. Вместо целого штата постельниц, которые попали в застенки Преображенского приказа, к ней приставили двух ветхих стариц, мать Агнию и мать Ираиду.
Сегодня старица Сусанна при помощи матери Агнии и матери Ираиды с трудом перетащилась в переднюю келью, окнами обращенную к Девичьему полю. Тут ее уложили на низенькую софу и под голову положили подушку.
— Что это, матушка Ираида, так раскаркалась ноне птица? — спросила она, прислушиваясь к ужасному карканью ворон, раздававшемуся у нее за окнами.
Старица испуганно переминалась на месте, но ничего не отвечала.
— Али ты не слышишь? — повторила мать Сусанна.
— Слышу, матушка, — был робкий ответ.
— Что ж это такое? Что птица кричит? — настаивала больная.
— Так, должно быть… не знаю…
Сусанна — Софья повернулась лицом к Ираиде и заметила ее смущенный вид. Ей чего-то страшно стало. А тут это ужасное воронье карканье!
— Что с тобою, мать Ираида? Что случилось? — с испугом спросила она.
— Там, под окнами, я не смею сказать, — бормотала старушка.