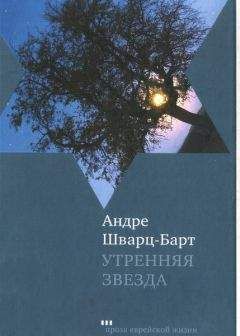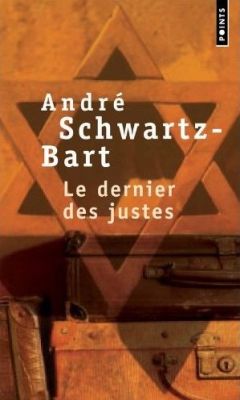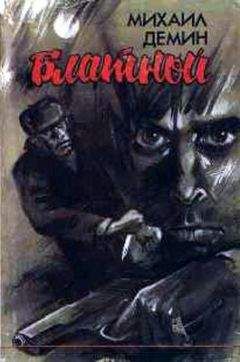Николай Алексеев-Кунгурцев - Татарский отпрыск
С переменою судьбы дочери изменилась и судьба ее родственников. Василий Степанович немедленно был возведен царем в звание боярина, а сын его в кравчего.
Посмотрим же, как Василий Степанович, сделавшись важным человеком, отблагодарил Данилу Андреевича за его хлопоты, ласку и радушие;
XI. Вестница горя
Скучно было Марье Васильевне в вотчине, когда она осталась одна после отъезда ее мужа с Собакиным в Слободу. Только и отводила душу, когда какая-нибудь из соседских помещиц погостить заедет. Проведут вдвоем дня два, поболтают, посмеются, а потом и прощай! Опять на годик-другой! И опять Марья Васильевна одна сидит.
Больше же всего ее тоска по мужу крушила. Сама на себя дивилась боярыня, почему в этот раз она больше, чем прежде, по мужу тоскует. Бывало, в «поле» поедет он… Знает Марья Васильевна, что, того и гляди, там либо из пищали в него пальнут, либо саблей зарубят, тоскует она, убивается, а все не так, как ныне. И тоска какая-то иная, словно от предчувствия какого-то недоброго.
Однажды поутру вбежал к ней в горницу сын.
— Матушка! — кричит, — богомолка к нам пришла! К угодникам в Киев пробирается! Старушка старенькая-старенькая такая!
Марья Васильевна обрадовалась.
— Зови ее скорее в дом! — крикнула она сыну и сама спустилась в светелку.
Скоро в комнату вошла маленькая, худощавая, сгорбленная старуха, в лаптях, с котомкой за плечами и дорожным костылем в руке, на который она опиралась при каждом шаге. Лицо ее было покрыто, как маскою, сетью морщин, беззубый рот ввалился, а подбородок далеко выдвинулся вперед. Только глаза, уже давно потерявшие блеск молодости, еще были полны жизни и смотрели приветливым и, вместе проницательным взором.
Войдя в светелку, старуха, опустясь на колени, прошамкала короткую молитву, истово осеняя себя крестным знамением, потом кряхтя, поднялась и, низко поклонившись боярыне, остановилась подле двери.
— Садись сюда, матушка! Устала, чай, с дороги, отдохни… Сейчас и перекусить тебе подадут, — сказала Марья Васильевна.
— Благодарствуй, боярыня! Точно, притомилась я маленько, — ответила старуха, опустившись на лавку и прислонив костыль свой к столу.
— Издалеча идешь?
— От самого от Новагорода. В Киев хочу пробраться, коли Бог приведет… Да уж не знаю, удастся ли: времена ноне такие лихие настали, что Боже упаси!
— Да уж, баушка! Тяжеленько ноне… Перекуси-ка… Вот рыбка, тут грибочки… кваску не хочешь ли?
— Спасибо, спасибо! Кружечку коли дашь, не откажусь, с грибками-от…
Квас был подан, и старуха, очевидно сильно проголодавшаяся, принялась за еду. Марья Васильевна, не желая ей мешать, на время прервала свою беседу.
— Вот я и сыта! Благодарствуй, боярынька! — вскоре произнесла старуха.
— Что ж так ела мало? Только чуть к грибкам притронулась?… Поешь еще! — потчевала ее Марья Васильевна.
— Довольно, родная! И то наелась до отвалу! Чуть не до самого Киева сыта буду! — шутила богомолка.
— Будешь в Киеве, за нас, грешных, помолись.
— Вестимо!.. Об этом не позабуду!
— Ты впервой на богомолье собралась?
— Какое впервой! С сорока лет хожу, с тех самых пор, как ляхи мужа убили… В Киеве раз с десяток была… Теперь в остатний иду: коли Бог поможет, в Ерусалим, ко Гробу Господню пойду…
— Сколько тебе теперь годов, баушка?
— Да вот в Покров без трех годков сотня будет!
— Неужто! Сотня лет! Долгою жизнью Господь тебя наградил!
— Взыскал меня не по грехам моим… Одначе, мне и в путь-дорогу пора, — поднялась богомолки.
— Чего ж ты? Посиди, а то и останься денек-другой… Отдохни.
— Нет, матушка, благодарствуй! Мое дело старое — мешкать нельзя… Того и гляди, помру, до Киева не дойдя… Нет, это не можно! Спасибо тебе, боярынька, за ласку да за угощенье!..
— Не на чем, баушка! И то, почитай, ничего не ела…
— Сытехонька! Тебя как звать?
— Марья.
— А муженька? Его, чай, дома нетути?
— Его Данилой… В Слободе он Александровской теперь…
— Молиться буду за рабов Божьих Данилу и Марию… А чем мне за угощенье тебе воздать? Ты меня не обессудь, старую: хочешь, я тебе скажу, что ждет тебя? Не подумай, что ворожбой бесовской я занимаюсь. Упаси Бог! Нет! Сподобил меня Господь на старости лет по лицам примечать, что впереди будет — злое али доброе.
— Скажи, баушка! Коли это от Бога, так греха нет, — сказала Марья Васильевна, охваченная суеверным чувством.
— Все Бог дает нам, грешным! Он и карает, и милует… Сдается мне, боярыня, что ждет тебя беда через мужа: нагрянет она на него оттуда, откуда и ждать нельзя будет. Ворог есть у него, и тот ворог погубить его захочет. Но Бог все устроит: чист боярин окажется, и беда в радость великую обратится… Надейся на Бога, боярыня! Прощай! Здоровенька будь!
И старуха медленно вышла из комнаты. А Марья Васильевна, взволнованная, шептала:
— Недаром чует сердце мое беду!
XII. Людская благодарность
Данило Андреевич, устроив Василья Степановича в Слободе, остался и сам тут же: его интересовало, какая судьба ожидает Марфиньку, не падет ли на нее царский выбор.
К нему часто заходил Егор Ладный, сиделец и гонец Василия Степановича, снова приехавший вместе с последним в Москву узнать от него, что с Марфинькой, скоро ли наступит день выбора. Приходил он к князю Ногтеву за справками по той причине, что ни у кого другого лучше узнать нельзя было. Впрочем, Собакины' могли бы ему тоже передавать не менее подробно, но с некоторых пор Василий Степанович и Каллист стали очень враждебно относиться к своему сидельцу. Данилу Андреевича такое отношение удивляло. Он несколько раз пытался спрашивать об этом Собакина, но тот только рукой отмахивался от расспросов. Ногтев радушно принимал у себя Егора Ладного, несмотря на разницу положений. Ему нравился этот парень за его кроткий характер.
В тот день, когда уже всем сделалось известным, что Марфа Собакина избрана царем в жены, Егор пришел к Ногтеву.
— Что, слышал, паренек, Марфушка-то чести какой дождалась? — спросил Данило Андреевич Егора.
— Слышал… Как не слышать! — тихо промолвил Ладный.
— Садись, молодец, чего стоишь. Что ты сегодня грустен словно? — сказал Ногтев, глядя на задумчивое и бледное лицо Егора.
— Тоска, боярин! — глухо проговорил Ладный, опускаясь на скамью.
— Тебе ль, вьюноше младому, да тосковать? С чего же это тоска на тебя напала?
— Так… Тяжко, боярин! Не спрашивай… Душа вся изныла! Жизни своей я не рад!
— Господи! Вот дивно! И с чего бы! — воскликнул князь.
В это время вошел слуга.
— Боярин Василий Степаныч, а с ним царский кравчий, Каллист Васильевич, повидать тебя желают, Данило Андреевич. Прикажешь просить?
— Проси, проси! — быстро произнес Данило Андреевич, которого разбирало любопытство посмотреть на вновь испеченного боярина, будущего царского тестя.
Через несколько минут послышались мерные медленные шаги, и в комнату не вошел, а вплыл Василий Степанович Собакин, царский боярин, и следом за ним, не менее торжественно его сын, Каллист, недавно получивший звание кравчего.
Когда Василий Степанович и Каллист вступили в комнату, бледное лицо Егора Ладного стало еще бледнее. Он поднялся с лавки и, не кланяясь, насмешливо посмотрел на вошедших.
— Царскому боярину и будущему тестю государеву челом бьем! — произнес Данило Андреевич, идя навстречу к Собакину.
— Спасибо, голубчик, спасибо! Не забудем тебя, будь спокоен! Шепнем царю при случае — все для тебя сделает по просьбе нашей! — важно проговорил Василий Степанович, протягивая руку Даниле Андреевичу с таким видом, словно делает ему великую честь этим.
Трудно было узнать в этом чванном боярине того купца-патриарха, которого так радушно принял в своей вотчине Ногтев… Всем своим видом новоиспеченный боярин хотел показать, что он важная птица. Голова его была закинута назад и, казалось, потеряла способность наклоняться — можно было подумать, что боярская шея куда менее гибка, чем купеческая.
Тон Собакина, его надменный вид и чуть слышное рукопожатие покоробили Данилу Андреевича, однако он был слишком гостеприимен для того, чтобы показать чем-нибудь свое неудовольствие гостю, и как ни в чем не бывало, поздоровался с Каллистом.
Потом он попросил гостей сесть.
Боярин и кравчий грузно опустились на лавки и развалились на них так, словно сидели у себя дома за вечерним сбитнем.
— Как здоровье Марфы Васильевны? — спросил князь, начиная беседу.
— Марфы Васильевны? — вопросительно вскинул на Данилу Андреевича глаза Василий Степанович. — Какая она теперь тебе Марфа Васильевна! — грубо заметил он потом. — Чай, слышал, что не сегодня-завтра она царицей будет русскою, а стало быть, и твоею… Мог бы иначе как-нибудь, а то на! Марфа Васильевна! Словно знакомую, какую простую.