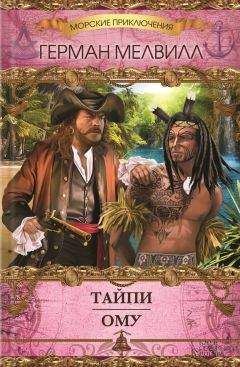Крипалани Кришна - Рабиндранат Тагор
Роман завоевал популярность не только среди молодежи. Зрелые и разборчивые критики тоже приняли его Доброжелательно. "Последняя поэма", — утверждал профессор С. К. Банерджи, — роман, написанный с большим поэтическим напряжением и на более поэтическую тему, чем, может быть, любой другой роман в истории мировой литературы". Доктор Шукумар Шен говорит о нем как о "любовной истории, написанной так, чтобы покончить со всеми любовными историями", а Бхабани Бхаттачарья, сам автор многих романов, заявлял: "Красота чувств в нем не поддается описанию, как и красота его языка. Каждый отрывок из него — это уникальная, потрясающая поэма в прозе, — и просто поразительно, что такое свидетельство молодости духа могло выйти из-под пера писателя, живущего восьмой десяток лет. Тагору удалось внутренне переродиться заново, так что творческий гений его сочетает богатое изобилие юного духа и глубину миропонимания подлинного ясновидца". Сюжет романа очень прост. Герой представляет собой образец ультрасовременного бенгальского интеллектуала, оксфордское образование которого развило в нем комплекс превосходства, создало манию оригинальности. Однако его агрессивному самодовольству нанесен сильный удар: он случайно встречает, а затем влюбляется в совершенно отличный от него продукт современного образования — умную девушку, способную на глубокие чувства. Ниспровергатель идолов становится пылким обожателем, но девушка понимает, что он влюблен не в нее, а в идеализированный ее образ, которому она никогда не сможет соответствовать. Чувствуя приближа-ющуся трагедию, она освобождает его от клятвы верности. Последнее стихотворение, которым она прощается со своим возлюбленным, — свидетельство глубины чувств, на которую она способна.
Я все тебе дала! Из смертной глины
Сам изваяй богиню для себя
И в храме сердца поклоняйся ей.
Не оскверню твой храм, рукой не двину,
Слезинки я не уроню, скорбя,
Не заглушу напев священной вины
Печалью безысходною моей.
Все к лучшему, и ты разлуку нашу
Не смей оплакивать со мною, — обещай!
Я вновь могу наполнить жизни чашу.
Мой друг, прощай![102]
На склоне лет поэт вновь переживал в воображении свою романтическую юность. Его молодые современники, очарованные последним романом, умоляли его издать антологию своих любовных стихов и поместить в нее новые сочинения. Этого предложения оказалось достаточно, чтобы тлеющие угли вновь вспыхнули. Как он сам замечал с иронией, он уподобился автомобильному двигателю, который заводится с пол-оборота. Поэтому вместо составления антологии он написал целую книгу совершенно новых стихов, в основном о любви, — "Мохуа", по названию пахучего индийского цветка, из которого делают местное хмельное вино. Поэт всю свою жизнь был влюблен в любовь, в любовь обезличенную. В одном из ранних стихотворений он писал:
Она спросит: "Останутся ли жить твои песни?" И я отвечу: "Этого я не знаю, но знаю я, что часто в песне я обретал бессмертие".
Во время сезона дождей 1928 года Тагор ввел два новых сезонных праздника: Врикша-Ропана (Посадка деревьев) и Хала-Каршана (Вспашка) соответственно в Шантиникетоне и в Шриникетоне. Эти живописные праздники с их незатейливыми церемониями, сопровождавшимися музыкой, танцами и ведическими песнопениями, взывавшими к жизненным силам природы и символизирующими ее непреходящую молодость, отмечаются до сих пор и привлекают многочисленных зрителей из окрестных деревень и из Калькутты. Тагор был влюблен в лес, постоянно сетовал на безжалостное уничтожение лесов в сельской местности и хотел ввести в практику особый ритуал посадки деревьев. Это ему удалось. Ныне не только в Шантиникетоне, который когда-то был клочком выжженной земли, а теперь стал миниатюрным городом-садом, — по всей Индии посадка деревьев, введенная Тагором, превратилась в народный праздник, в ее организации принимают участие центральное правительство я правительства штатов.
Одна из самых характерных книг его стихов называется "Бонобани" ("Голос леса"). В ней собраны стихи о деревьях, кустарниках и цветах, а также о различных временах года. В целом книга представляет собой гимн природе и посвящается другу поэта, биологу Дж. К. Бошу, который доказывал, что растениям свойственны почти такие же жизненные реакции, как и людям. В одном из писем, написанных в молодые годы в плавучем доме на реке Падме, Тагор тоже описывает свое странное ощущение родства с землей: "Я чувствую, как будто смутные, далекие воспоминания возвращаются ко мне из тек времен, когда я был единым целым со всей остальной землей, когда на мне росла зеленая трава, на меня падали осенние листья, когда горячий аромат молодости исходил из каждой поры моего огромного, мягкого и зеленого тела при прикосновении ласковых солнечных лучей, и новая жизнь, светлая радость полусознательно испускалась и разливалась по свету из всей огромной глубины моего существа, безмолвно раскинувшегося под ясным голубым небом разными странами, морями и горами".
1928 год был по-настоящему плодотворным, и отчасти, быть может, потому, что по состоянию здоровья Тагор оставался на родной земле. Именно в этом году он приступил к первым своим опытам в совершенно новой и неожиданной для него области творческого выражения — в живописи. Его всегда тянуло к этому искусству, всегда бросал он на него вожделенные взгляды с тех пор, как маленьким мальчиком увидел, как рисовал его старший брат Джотириндронат, одаренный разнообразными талантами. Об этом своем тайном желании он рассказывает в "Воспоминаниях". "Я вспоминаю, как лежал вечерами на покрытом ковром полу с альбомом в руках и пытался рисовать — скорее играл в создание картин, чем упражнялся в изящных искусствах. Главным в этой игре было то, что сохранилось от нее в моей душе, и от чего ни следа не осталось на бумаге".
Позднее, когда в его племянниках Обониндронате и Гогонендронате обнаружились способности к живописи, он вдохновлял их на этом поприще и помогал находить то, что со временем стало называться современным течением в индийском искусстве. Сам же он почти не брал в руки кисть. Однако часто рисовал пером. Его рукописи содержат обширные и увлекательные свидетельства таких упражнений в рисовании, вплетенные в стихи.
Большинство этих упражнений связано с тем, что он называл "небрежностями в моих рукописях", то есть с исправлениями и зачеркиваниями, которые он не оставлял на листе в виде бессвязных помарок. Они казались ему "потерянными бродягами", неистово ищущими спутников и жалобно призывающими спасти их от горького положения изгнанников; поэтому он тем же пером объединял эти "одинокие несообразности" в причудливые или гротескные ритмические фигуры.
Теперь же он отдался новому занятию, упиваясь им как ребенок новой игрушкой. К счастью, он не имел достаточной выучки и амбиции, чтобы попытаться утвердить себя как художник, поэтому он рисовал, не подчиняясь никаким внешним ограничениям, не делая ничего показного. Единственное, что достойно сожаления в этой ситуации, это то, что, не принимая всерьез свое искусство, он рисовал на любых попадавшихся под руку листах бумаги, подчас самыми случайными инструментами и красками, из-за чего возможность сохранения этих картин становится теперь проблематичной. Рисовал он быстро и уверенно, чаще всего в перерывах между литературным трудом, каждую картину заканчивал в один прием и оставил после себя около 250 картин и рисунков, причем все они созданы в последние тринадцать лет его жизни. Это, несомненно, выдающийся результат, учитывая к тому же то обстоятельство, что в эти же годы он опубликовал более шестидесяти книг новых стихов и прозы.
Сам он называл свои картины "стихосложением в линиях" и признавался в одном из писем, что был "безнадежно опутан очарованием линий". Многие его рисунки, несомненно, отмечены ярко выраженным чувством ритма, однако в остальном трудно найти что-либо общее между его поэзией и живописью. Какое-то другое его "я", если и не более глубокое, то, во всяком случае, более открытое искало свое выражение в этом новом виде искусства. В литературе Тагор — сознательный художник, законченный мастер, в совершенстве владеющий своими инструментами и умениями, способный сказать то, что он хочет, и так, как он хочет. Поэтому то, что он говорит, непременно выверено, обдумано, как и всякое большое искусство, и всегда прекрасно, иногда настолько прекрасно, что задаешь себе вопрос, до какой степени это сказано Рабиндранатом, человеком из плоти и крови, и в какой мере его голосом говорит дух всей Индии. Он пишет, сознательно посвятив себя служению высшей воле. Рисуя же, он скорее похож на лунатика, уверенно шагающего, не глядя себе под ноги, влекомого неуправляемой силой. Гротеск, эксцентричность, жестокость, злоба — все то, отчего он тщательно очищал свои литературные произведения, проявляется в его рисунках. В них чувствуется игра не только Ариэля, но и Пэка и Калибана.[103]