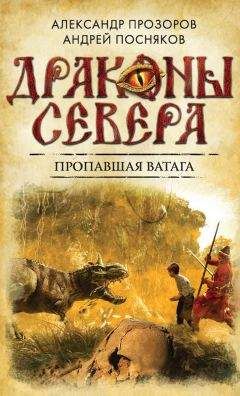Станислав Зарницкий - Дюрер
Ученого каноника застал Дюрер в плачевном состоянии. Мучила его болезнь, вывезенная некогда из папского дворца. Ее не могли одолеть ни лекарства, ни покаяния. Поэтому общаться пришлось больше с другом Лоренца астрономом Иоганном Шёнером. Новый знакомый, когда услышал, что мастер бьется над пропорциями человеческого тела, но далеко не продвинулся, ибо слаб в математике, предложил ему свои услуги. Знай об этом Дюрер — привез бы свои рукописи. А без них много не сделаешь. Поговорили — на том все и кончилось.
Хотя Георг III принял Дюрера на следующий же день после его приезда, времени уделил ему мало. К тому же предупредил: позировать сможет всего раз или два, не больше: занят чрезвычайно. Дела важные, церковные — поднимает голову ересь, того и гляди, расползется по всей Германии, погубит ее. Близка жатва. Вот неизвестно только, что предстоит собрать — ядовитые плевелы или тучные зерна? За два десятилетия всякий умеющий читать и писать сеял, не задумываясь, все, что подвертывалось под руку. И потому засорена нива веры сомнениями и вопросами, кирпич за кирпичом растаскивается основание церкви. Пусть есть доля правды в том, что в Риме не все обстоит благополучно. Но вера здесь при чем? На том и расстались. Лоренц сетовал на то же самое. Хотел узнать, каково у них там, в славном городе Нюрнберге. Есть, мол, такая пословица: все немецкие города слепы, лишь Нюрнберг видит, хотя и одним глазом. А вот видят ли нюрнбержцы, что вновь зашевелились крестьяне? Немые вдруг обрели язык и стали требовать: долой Священную Римскую империю и ее законы о налогах! Назад к старым обычаям!
Однако гром грянул не оттуда, откуда его ожидали в Бамберге. Перед самым отъездом Дюрера проведали горожане о полученной в епископском дворце удивительной новости: 31 октября 1517 года некий монах-августинец Лютер прибил к дверям церкви в Виттенберге какие-то 95 тезисов. Сначала особого значения этому сообщению не придавали. Прибил так прибил — сейчас каждый кому не лень лепит свою писанину на всеобщее обозрение. Никому и в голову не пришло, что именно с этой даты начнется в Германии отсчет нового времени.
Будто половодье смело разом все плотины и запреты. Заговорила Германия во весь голос. Оказалось, тезисы Лютера затронули каждого. И Дюрера тоже. Ехал он домой и размышлял над ними. Дан был ответ на все вопросы. Для Лютера не было сомнения в том, что, разрешив продажу индульгенций, римская церковь произвела на свет чудовищную ложь и принудила верующих не любить, а бояться бога. По ее нынешнему учению, не тот, кто верует, предстанет перед богом очищенным от всех грехов, а тот, у кого есть деньги. Если же отпущение грехов можно купить, то кто же станет искренне раскаиваться? Нет, заявлял Лютер, все это искажение Христова учения. Одно лишь раскаяние, идущее от самой души верующего, одна лишь его глубокая вера открывает врата в царство божье. Обратившись к Евангелию, он, Мартин Лютер, открыл в нем истину, которую утаил Рим: веруя, человек не должен бояться гнева господа, он смело может предстать пред его очи, ибо никаких адских мук ему не суждено.
Конечно, Дюреру именно это бросилось в глаза в учении реформатора. С позиций современника он не мог оценить политического значения вызова, брошенного Лютером всей католической религиозной концепции. Была поколеблена система прежних догм, и подорваны претензии духовенства на господствующее положение в обществе, оно лишалось права карать или миловать, выступать от имени какой-то высшей силы.
Приехав в Нюрнберг, застал Дюрер дискуссию о тезисах Лютера в самом разгаре. Доктор Мартин прислал их викарию нюрнбергских августинцев Венцелию Линку — для размышления и нелицеприятной критики. Линк поспешил с ними к Шпенглеру, тот — к Кристофу Шейрлю. И вот уже весь город только о них и говорит.
Встретившись со своими друзьями, припомнил Дюрер о том, от кого впервые узнал о Лютере. От Штаупитца, конечно! Вспомнил, как хвалил Штаунитц своего ученика. Уже тогда он превзошел в Германии всех в знании Священного писания и трудов отцов церкви. Лютер спрашивал самого себя: что же есть истина? И не мог ответить. Многое из прочитанного было спорно, а другое нуждалось в подтверждении. Встал перед ним вопрос: верить ли всему, хотя это и абсурдно, или же искать истину? Поиски предполагали критику. Критика же была запрещена. Что же делать? — спросил Мартин Штаупитца. Учитель ответил: если Христос искал истину, значит, стремление к ней следует отнести к догматам веры, значит, в нем нет ничего предосудительного. Знал бы Штаунитц, к чему приведет его ответ…
Сначала только смелость, а потом и само учение Лютера приковало к нему многие сердца. Пришел Нюрнберг в движение. Отрядили Кристофа Шейрля в Виттенберг — к Лютеру. Но об этом знали лишь близкие друзья, для всех остальных ехал Шейрль к курфюрсту Фридриху якобы по делам города. Должен был нюрнбергский посланец заверить доктора Мартина, что есть у него друзья в Нюрнберге, которые желают ему победы и на которых он может опереться. Дюрер вручил Шейрлю пакет со своими гравюрами — подарок Лютеру. Просил на словах поблагодарить его за то, что освободил душу мастера от многих страхов и тем немало облегчил жизнь.
Возвратился Шейрль с ворохом писем. Для Дюрера, однако, не было ничего. Это мастера обидело. Но, словно спохватившись, в письме от 5 марта 1518 года Кристофу Шейрлю посвятил Лютер Дюреру несколько строк: выражал признательность за подарок.
Не ради красного словца передавал Дюрер Лютеру, что своим выступлением тот будто камень с души снял. Откуда только силы взялись и энергия? Художник буквально воспарил, словно его дух расковали. Близилась к своему завершению работа над «Бургундской свадьбой», или «Триумфальным шествием». Хотя на сей раз Вилибальд почти и не оказывал помощи в сочинении аллегорий, и без него справился. Слава богу, сколько всяческих аллегорий за последнее время написал! А еще создал картину, на которой обнаженная Лукреция, обесчещенная Тарквинием, пронзает свою грудь кинжалом. Картина вышла так себе. Писал ее больше из озорства. Ведь до Лютерова выступления боязнь Страшного суда заставляла отказываться от изображения греховной плоти. Разве что иногда ведьм помещал на своих гравюрах, но это грехом не считалось.
Наиболее осторожные нюрнбержцы тем временем уже заказывали мастерам хитроумные запоры для окон и дверей: ждали, что вот-вот хлынут плебеи на улицы — восстанавливать истинную веру. И так уже многие диспуты о том, прав или не прав доктор Мартин, заканчивались кровопусканием и членовредительством. Не бывало еще такого в городе. Стража едва успевала наводить порядок. Если бы только простой люд так бунтовая, а то и патриции чуть в драку не лезут. Эразм Роттердамский в переписке с Пиркгеймером призывал приложить старания, чтобы вопросы веры решались без пристрастия и прежде всего без буйства. Он-де уже опубликовал точный текст Библии на греческом языке, и теперь каждый может увидеть, какие ошибки содержатся в латинском переводе, и сделать выводы. Право же, не стоит из-за каких-то погрешностей кровавить носы и проламывать головы! Но всем уже было ясно, что речь шла не просто об «ошибках».
Конечно, Дюрера, как и весь город, политика захлестнула, и он принимал участие в диспутах. Как же иначе — ведь и он гражданин Нюрнберга? Но одновременно — споры спорами, дело делом — заказал у лучших мастеров куклу в человеческий рост, всю на шарнирах — для изучения человеческой фигуры в движении. Пожимали друзья плечами: нашел время для опытов. А в доме у Тиргэртнертор — переполох. Нужно было видеть глаза четырнадцатилетнего Бартеля Бегама, его ученика, когда в мастерскую доставили это чучело! Подмастерья перемигивались: дошел, мол, до точки со своими исследованиями. Лишь Зебальд Бегам проявил деловой интерес. Ему и объяснил Дюрер, что нужно ему это чучело не для того, чтобы пугать домочадцев, а чтобы научиться изображать движущегося человека.
С Зебальдом Дюреру повезло — нашел наконец ученика-помощника. Появился Бегам у него в мастерской вместе со своим братом как раз через несколько дней после ухода Вольфа Траута, которого сманил Шпрингинклей, открывший собственное дело. Шестнадцатилетний Зебальд при первом разговоре держался вежливо, но напористо — будет учиться у Дюрера, и все тут. Понравился он мастеру, сразу же взял его к себе. Оказалось, однако, что просил Зебальд не только за себя, а и за брата. Мол, Бартель рисует даже лучше его. Улыбнулся Дюрер, махнул рукой: если это так, пусть остается.
О Бартеле пока еще рано было говорить, а у Зебальда действительно была искра божья — все схватывал на лету.
Через неделю уже знал, что пишет Дюрер наставление для живописцев. Расспрашивал о пропорциях. А теперь они вместе гнули куклу, придавали ей различные положения, измеряли, записывали, рисовали. Манекен навел Зебальда на мысль, что, может быть, стоило бы подумать и над другими приборами. Пришлось объяснить юноше, что сейчас пока ставит перед собою мастер задачу передачи движения, приборы они потом будут изобретать.