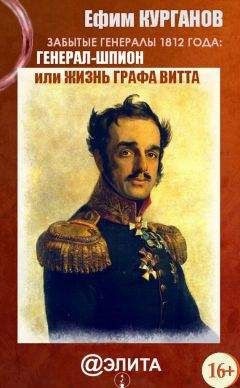В. Мауль - Русский бунт
Знакомство, и не только по рассказам, с жизненными тяготами родного брата-казака провоцировало колебания психики, эмоциональную неустойчивость, раздражение. Реальное бытие, а не только фольклорные утопии становились его учителями и наставниками.
Все это способствовало тому, что жизнь Пугачева изобиловала многочисленными метаморфозами, несвойственными обычному рядовому простецу, принадлежавшему традиционному обществу. В то время как эпоха настаивала на закреплении за человеком определенного ролевого статуса, Пугачеву неоднократно приходилось его менять. За свою жизнь он успел сыграть несколько «ролей»: начав с рядового казака и побывав казачьим сотником, беглецом, «старообрядцем», «купцом», в конце концов решил примерить на себя «наряд» императора. Такая частая перемена социальной «одежды» являлась несомненным доказательством системного кризиса общества, проявившегося на индивидуальном уровне как поиск личной идентичности.
С. Т. Разин. Гравюра резцом (1827).
Формирование харизмы Пугачева происходило на протяжении всей его жизни. Родился он около 1742 года в казачьей семье в Зимовейской станице на Дону и до семнадцати лет жил «все при отце своем так, как и другия казачьи малолетки в праздности» [31; 132]. Но настолько уж, видимо, прихотливы капризы судьбы, что Пугачев и вождь мощного народного движения XVII века Разин оказались земляками. «И трудно представить, чтобы Е. И. Пугачев сызмальства не слыхал о своем знаменитом предшественнике, чье имя прочно вошло в фольклор, часто сливаясь с именем Ермака» [64; 282]. А услышав, очевидно, не раз завидовал его громкой славе, в мечтах возносился еще выше: уже не Разин, а он сам мысленно бросал своим «работничкам» знаменитый клич: «Сарынь на кичку». И хотя неизвестно, играли на Дону в «Стеньку Разина» или нет, такое предположение не лишено оснований. Как сообщают биографы Пугачева, с детства «он отличался смелым и решительным характером, выступал заводилой среди сверстников, верховодил ими», нередко «проявлял крутой нрав, строптивость, любил командовать» [14; 7]. Точь-в-точь как его выдающийся земляк, «малейшему знаку» которого «повиновались... и были ему верны, как если бы он был самым великим монархом в мире» [119; 366]. Однако в течение довольно продолжительного времени у Пугачева, от рождения имевшего деятельную натуру и взрывной темперамент, не было иных, кроме детских игр, выходов для своей энергии. Тем не менее уже в раннем возрасте он проявлял несомненное честолюбие, стремился обратить на себя внимание, стать лидером в реальной жизни, в отношениях с другими людьми. Вполне вероятно, что именно фольклорный образ Стеньки Разина на долгие годы стал тем идеалом, по которому Пугачев «измерял» каждый свой шаг. Эти обстоятельства можно рассматривать как источник возникновения и развития его высокой самооценки.
После смерти отца непоседливый, шаловливый мальчишка сразу повзрослел, стал мужчиной, превратился в самостоятельного казака со своим участком земли, в хозяина. В семнадцать лет он женился на казачьей дочери Софье Недюжевой и оказался главой семьи. Вскоре после свадьбы его призвали на службу «в пруской поход», а позже в 1769 – 1770 годах Пугачев воевал с турками и за храбрость был даже произведен в хорунжии, командовал казачьей сотней. Начиналась типичная для казака карьера. Дальнейший жизненный путь Пугачева, казалось, был предопределен традицией. Участие в заграничных походах существенно расширило его кругозор; несмотря на молодость, обогатило немалым жизненным опытом. Вернувшись домой со славой, он, несомненно, заслужил бы почет, став уважаемым на Дону казаком, к мнению которого все внимательно прислушиваются. Этим могли быть удовлетворены его лидерские амбиции, а личное счастье было бы обретено в семейном благополучии (он уже имел троих детей). Со временем обзавелся бы имуществом.
Так могло быть прежде, но не произошло сейчас. Смятение эпохи сказалось и на свойствах характера будущего народного героя. «В Пугачеве сильно представлен беспокойный, бродяжий, пылкий дух и, сверх того, артистический дар, склонность к игре, авантюре. Пугачев играл великую отчаянную трагическую игру, где ставка была простая: жизнь», – заметил Н. Я. Эйдельман. Поэтому царская служба ему быстро надоела, «захотелось воли, да тут еще “весьма заболел” – “гнили руки и ноги”, чуть не помер. Шел 1771 год. До начала великой крестьянской войны остается два года с небольшим; но будущие участники и завтрашний вождь, конечно, и во сне не могли ничего подобного вообразить... Если в одолела болезнь Пугачева – как знать, нашелся бы в ту же пору равный ему “зажи-гальщик”? А если в сразу не объявился, хотя бы несколькими годами позже, – неизвестно, что произошло бы за этот срок; возможно, многие пласты истории легли бы не так, в ином виде, и восстание тогда задержалось бы или совсем не началось. Вот сколь важной была для судеб империи хворость малозаметного казака» [139; 99].
Увы, но не дано нам заглянуть за «кулисы» истории, узнать, что было бы, если... Остаются только одни вопросы, требующие скрупулезного поиска ответов и исторических смыслов.
Высокая личностная установка заставляла Пугачева искать признание окружавших. В противном случае демонстрация великого предназначения теряла свой смысл, меняла знаки, превращаясь в фарс и заурядное хвастовство. Для понимания того, как реализовывалась пугачевская самооценка, симптоматичен эпизод, который произошел под Бендерами во время одного из военных походов. У Пугачева была, очевидно, хорошая сабля. Зная, что оружие дается «от государей в награждение за заслуги», Пугачев стал уверять сослуживцев, что «сабля ему пожалована потому, что он крестник государя Петра Перваго», хотя тот умер более чем за полтора десятилетия до его появления на свет. «Слух сей пронесся между казаков и дошел до полковника Ефима Кутейникова, но, однако ж, не поставили ему сие слово в преступление, а только смеялись». Данный пример убеждает, что и на войне Пугачев стремился не быть в числе последних, «произвесть в себе отличность от других» [95]. Он, как в детстве, пытался продемонстрировать свою «особость», выделиться из общей массы. Но пока был готов, хотя и с обидой, терпеть насмешливый хохот своих боевых товарищей.
Событие, которое, возможно, ускорило кризис личной идентичности, произошло во время Семилетней войны. Пугачева по приказу его командира подвергли телесному наказанию. Позднее он объяснял, что «состоят-де на спине у него знаки... от того, что он, Пугачев, жестоко бит был казацкими плетьми во время бывшей Пруской войны, под местечком Кривиллы, по приказанию казачьего полковника Ильи Денисова, за потеряние им, Пугачевым, его, Денисова, собственной лошади» [36; 241].
Несомненно, эта жестокость, воспринятая как несправедливость, запала в душу горячего и вольнолюбивого казака. Произошло столкновение двух установок – представлений Пугачева о самом себе, его ожиданий, честолюбивых помыслов с суровой реальностью, мало совпадавшей с высокой самооценкой. Не будь ее, возможно, побои (кстати, не последние в жизни) не произвели бы большого впечатления на Пугачева, как это было, например, с яицким казаком Иваном Пономаревым (Самодуровым), который признавался на допросе, что «однажды на Яике сечен же плетьми, но за какую вину – не упомню» [89; 120]. Беспамятство Пономарева вполне вписывается в русскую традицию, в соответствии с которой наказание, как бы жестоко оно ни было, принято называть «царской милостью, и, отбыв его, они [наказанные. – В. М.] благодарят за него царя, судью и господина, кланяясь до земли...» [99; 326]. Потому-то простой казак «не помнит», за что его секли, иное дело – будущий «всероссийский император».
Наказание палками. Гравюра из книги Адама Олеария «Описание путешествия в Московию...» (XVII век).
Наказание Пугачева на языке традиционной культуры могло быть «прочитано» как символическое понижение и даже унижение «высокого», тем более что на теле остались следы, заметные еще накануне его объявления на Яике. Тело жертвы само превратилось в знак, стало носителем определенной информации.
Вполне очевидно, что полученная Пугачевым психологическая травма не исчезла бесследно, а жестко определила всю его дальнейшую жизнь, породив в нем страх перед властью, может быть даже панический, но вместе с тем и острую, болезненную жажду власти.
Самовольно оставив службу и не успев окончательно восстановиться после болезни, Пугачев ввязывается в авантюру своего родственника Симона Павлова: перевозит его с казаками на другую сторону Дона, хотя знает, что «по установлению положена казнь таковым, кто дерзнет переправлять кого за Дон». Все же намерения беглецов пока еще вызывают у Пугачева неприкрытый испуг: «Что вы ето вздумали, беду и со мною делаете, ни равно будет погоня, так по поимке и меня свяжут, в тех мыслях якобы вас подговорил, а я в том безвинно отвечать принужден буду». «Для того я и убежал, что страшился держать ответ перед властью», – сообщал он позднее на допросе [30; 109]. Верноподданный ее императорского величества в одночасье стал вне закона. Помогая зятю бежать за Дон, он совершал сакральный разрыв с традицией, нарушал ее культурные законы. Началась не менее захватывающая история многочисленных побегов и арестов, арестов и побегов, а в перерывах – интригующих странствий.