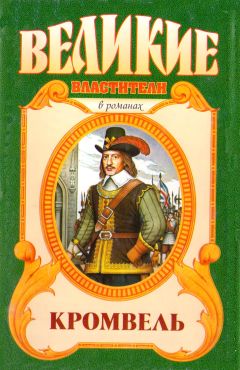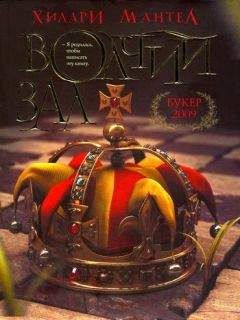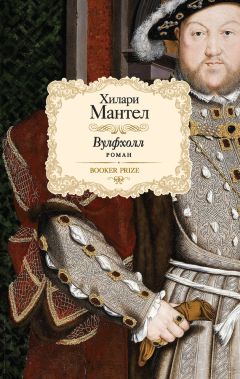Алексей Варламов - Булгаков
«Я верю: материи и посуда, зонтики и калоши вытеснят в конце концов плешивые чиновничьи головы начисто. Пейзаж московский станет восхитительным. На мой вкус.
Я с чувством наслаждения прохожу теперь пассажи. Петровка и Кузнецкий в сумерки горят огнями. И буйные гаммы красок за стеклами – улыбаются лики игрушек кустарей.
Лифты пошли! Сам видел сегодня. Имею я право верить своим глазам?
Этот сезон подновляли, штукатурили, подклеивали. На будущий сезон, я верю, будут строить. Осенью, глядя на сверкающие адским пламенем котлы с асфальтом на улицах, я вздрагивал от радостного предчувствия. Будут строить, несмотря ни на что. Быть может, это фантазия правоверного москвича… А по-моему, воля ваша, вижу – Ренессанс», – писал Булгаков в «Столице в блокноте» и в том же очерке – после нескольких главок, одна из которых посвящена новой, железной интеллигенции («и мебель может грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься»), после описания чудо-мальчика с ранцем, который не попрошайничает, не торгует сигаретами, а культурно идет в школу, после торжественного рассказа о театре «Человек во фраке» с обещанием «через полгода все оденемся во фраки» и, наконец, после полемики с Эренбургом и некими футуристами, обозвавшими его мещанином не иначе как за эстетический консерватизм, автор обращался к заграничной аудитории:
«Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что „все образуется“ и мы еще можем пожить довольно славно».
Пусть это была агитка, но искренняя. И не только тому, кто Россию оставил, но и тем, кто жил в Москве, кто сравнивал 1922 год с 1918-м или даже с 1920-м, было ясно, что автор действительно не врет, ибо – как опять-таки было сказано в «Роковых яйцах»: «…все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение». Обратное не означало восстановления монархии, оно означало – восстановление нормальной жизни, что и было для нашего писателя самой высшей, откровенно высказываемой им ценностью.
Это одна сторона дела. Но есть и другая. В фельетонах – нет, а в дневнике Булгаков давал не столь радужные оценки московской жизни: «Москва в грязи, все больше в огнях – и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена. В центре Москвы, начиная с Лубянки, „Водоканал“ сверлил почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена. Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно – 8 автобусов на всю Москву. Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза – все это в гангрене. Ничто не двигается с места. Все съела советская канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина – это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы. Магазины открыты. Это жизнь. Но они прогорают, и это гангрена. Во всем так. Литература ужасна».
Известный левоэсеровский критик Разумник Васильевич Иванов-Разумник (тот самый, кто опубликовал в 1918 году в газете «Знамя труда» поэму Блока «Двенадцать»), оставшийся в Советской России и ушедший в оппозицию к большевистскому режиму, упрекал тех писателей, которые, будучи лишены возможности писать всю правду, соглашались на половину. «Честный писатель, честный художник не имеет права лгать ни публике, ни самому себе. Но говорить половину правды – значит именно лгать» [97; 199].
В известном смысле эти слова можно было бы отнести и к Булгакову, автору половинчатых накануньевских фельетонов. Но тут вот что важно подчеркнуть. Булгаков, хоть и упрощал в своей публицистике противоречия жизни, однако не лицемерил. Он писал не как сторонний наблюдатель, хладнокровно фиксирующий симптомы жизни и смерти, но как человек, вынужденно или добровольно, связавший судьбу страны с собственной судьбой и принципиально не желавший уходить, подобно Разумнику, в оппозицию. Именно здесь, в эти годы вырабатывалась стратегия его писательского поведения и отношения к власти. Разумеется, эта стратегия не была абсолютной, а взгляд Булгакова на Москву и происходившие в ней перемены единственно возможным. Совершенно иначе описывали, независимо друг от друга, нэпмановскую столицу философ Борис Петрович Вышеславцев в письме к берлинскому издателю А. С. Ященко от 5 октября и писатель Иван Сергеевич Шмелев в письме к Бунину от 23 ноября 1922 года.
Вышеславцев: «Жизнь здесь физически очень поправилась, но нравственно невыносима для людей нашего миросозерцания и наших вкусов. Едва ли в Берлине Вы можете есть икру, осетрину и ветчину и тетерок и пить великолепное удельное вино всех сортов. А мы это можем иногда, хотя и нигде не служу и существую фантастически <…> Зарабатывать здесь можно много и тогда жить материально великолепно, но – безвкусно, среди чужой нации, в духовной пустоте, в мерзости нравственного запустения. Если можете, спасите меня отсюда» [115; 239].
Шмелев: «Москва живет все же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрет, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища, ненужного и случайного. В России опять голод местами, а Москва живет, ездит машинами, зияет пустырями, сияет Кузнецким, Петровкой и Тверской, где цены не пугают <…> жадное хайло – новую буржуазию. Нэп жиреет и ширится, бухнет, собирает золото про запас, блядлив и пуглив, и нахален, когда можно. Думаю, что радует глаза „товарищам“ и соблазняет. Зреет язва, пока еще не закрытая. А что будет – не скажет никто. Литература случайна, пустопорожна, лишена органичности, не имеет лиц, некультурна, мелка, сера, скучна, ни единого проблеска духовного. Будто выжжено, вытравлено все в жизни, и ей не у чего обвиться, привиться» [139; 83].
Этого «Накануне» никогда бы не опубликовала, хотя здесь приведены одни из самых замечательных, точных и горьких оценок состояния русской жизни той поры, и, доведись Булгакову эти строки прочесть, в душе он, верно, вынужден был бы с ними согласиться, но… но он не мог позволить себе такого настроения. Ему, в отличие от Шмелева, от Вышеславцева, от Бориса Зайцева, от Марины Цветаевой, от Ходасевича, от Андрея Белого, от других русских философов, писателей и поэтов, на время или навсегда покидавших Советскую Россию в один из последних массовых отъездов интеллигенции, надлежало в советских условиях жить и выживать, тут спасаться, тут писать, печататься, осваивать эту выжженную почву и искать, к чему привиться. Он писал с этого берега.
Здесь, вероятно, есть смысл сделать небольшое отступление и попытаться представить себе иную ситуацию: а что, если бы в 1922-м – последнем году, когда из СССР можно было при сильном желании легально уехать или добиться командировки, как это удавалось многим, – Булгаков покинул страну и оказался в Европе, что бы он стал там делать? Те писатели, философы, о которых говорилось выше и которые не принимали советского строя, были в эмигрантской среде кто больше, кто меньше, но известны. Их ждали пусть не с распростертыми объятиями, но они могли рассчитывать на помощь, на получение работы, денежных пособий и вспомоществований, на издание книг. Булгакова в 1922 году в эмиграции не знал никто. Хуже этого, могли и знать, но с дурной стороны: на нем как клеймо стояла печать сотрудничества с «Накануне» – этот волчий билет, погубивший не одну репутацию. Достаточно вспомнить печальную судьбу брюсовской Ренаты, Нины Петровской, от которой отвернулась вся эмиграция, после того как она с подачи Алексея Толстого отдала свое имя большевистскому изданию. Хороши или плохи были опубликованные в «Накануне» произведения Булгакова, для эмиграции, с ее острым политическим чутьем, само название этой газеты звучало как приговор. Недаром Булгаков с такой ненавистью и горечью писал в дневнике о своем вынужденном сотрудничестве с изданием, одновременно спасавшим и губившим его, компрометировавшим в России и отрезавшим путь на Запад, – то была воистину какая-то дьявольская ловушка. И если бы ему вдруг и удалось уехать, его не ждало бы ничего другого, кроме черной работы, – а был ли он на нее способен, как, например, трудившийся шофером Гайто Газданов? Булгаков – таксист, Булгаков – официант, Булгаков – швейцар? Чепуха, чеховская реникса, уж лучше мыкать горе в московских редакциях.
Его место, его путь, его судьба были здесь, в России, и, похоже, он это очень хорошо осознавал. Может быть, по этой причине в его московских фельетонах примечателен и еще один аспект. Когда Россию покидали люди, несогласные с большевиками, их он не касался, по условиям ли цензуры, или не хотел сам, но не трогал. Однако было немало других, кто рассуждал так же или примерно так, как уезжавшие, но при этом замечательно устраивался в советской жизни, сохраняя ненависть к большевикам. Мимо них автор «Накануне» не проходил и насмешливо, зло, быть может, даже несправедливо писал об этой ненавидевшей большевиков сытой московской интеллигенции.