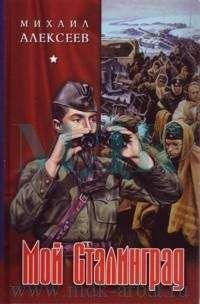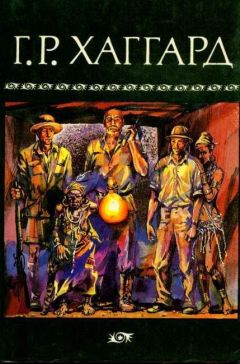Михаил Алексеев - Вишнёвый омут
От того ли щекочущего, покалывающего в ноздрях запаха, от большого ли горя на глазах Михаила Аверьяновича появились слёзы. Пытаясь сдержать их, он плотно смежил веки, но накопившаяся влага всё же просачивалась, катилась по щекам, по опалённой бороде. Ему вспомнился последний разговор с Карпушкой, и от этого на сердце стало ещё тяжелее, томительнее.
«Ни за что обругал человека дураком, — подумал Михаил Аверьянович о себе. — Кажись, Карпушка был прав. В бандитскую, бирючью шкуру Митрий залез. А я ему, рассукиному сыну, поверил».
Потом почему-то подумалось об осокоре:
«Вот ещё один мучитель покойного Карпушки. Сколько жил вытягивал из старика! Надо мне за него взяться. Пора!» С этими мыслями Михаил Аверьянович решительно направился к месту, где росло гигантское дерево.
Осокорь находился далеко от сгоревшего шалаша, пламя пожара никак не могло достать его; с тем большим изумлением Михаил Аверьянович увидел дерево высыхающим. Осокорь умирал. Ветви, что были поближе к неохватному, иззубренному, израненному комлю, ещё зеленели по-прежнему жирной, сочной, густой листвой, а повыше они уже засыхали, по-покойницки выпрямившись, вытянувшись; листья на них жестяно звенели под порывами ветра. Многие уже сорвались и лежали на земле, чуждые среди яркой зелени разнотравья, среди цветов, среди заботливо порхающих и ползающих бабочек, божьих коровок, муравьёв.
Михаил Аверьянович с силой тюкнул по коре осокоря, но из свежей раны не брызнул, как прежде, не заструился живой, пульсирующей кровью освобождённый из жил сок: похоже, его едва-едва хватало на то, чтобы напоить только нижние ветви и листья. Больное дерево обескровело, и это была смерть. И было странно, что она пришла к осокорю в то время, когда никто не мешал ему жить, когда враг его лежал уже в земле, когда смертельная схватка осталась позади, борьба окончилась и он, великан, вышел из неё победителем. Зачем же он умирает?
А вокруг умирающего, в пяти-шести шагах от него, посветлело, некогда хилые яблоньки вроде бы приободрились, повеселели. На образовавшемся солнечном пятнышке — раньше его не было — вовсю цвёл кустик невесть откуда взявшейся земляники, над ним тягуче гудела пчела. На месте убранного недавно плетня храбро стремилась вверх юная поросль тёрна. Листочки на тёрне были ещё нежные, мягкие, мягкими были даже колючки. Они напоминали шпоры молодого, ещё не заматеревшего к грядущим жарким боям петуха.
«Вот и Ванюшка в детстве был таким же колючим», — глядя на молодой тёрн, вспомнил про старшего своего внука Михаил Аверьянович.
Назавтра назначен воскресник — штурм Вишнёвого омута, и руководить этим штурмом будет Иван Харламов.
Как-то он сказал деду:
— Омут наш называется Вишнёвым, а не оправдывает такого названия. Вот мы, комсомольцы, и решили расчистить его берега для сада. Возле самой воды кругом будут вишни, а уж вторым эшелоном у нас пойдут яблони, груши, сливы. Добре?
— Добре, — сказал Михаил Аверьянович и долго, как-то особенно тепло посмотрел на лобастого, уже начавшего лысеть двадцатипятилетнего парня: «Жениться бы ему надо».
Штурмовать Вишнёвый омут Иван начал давно. Когда ему было лет десять, он привёл на самый глухой берег своих товарищей и объявил им, что сейчас искупается в омуте.
— А вот не искупаешься!
— А вот искупаюсь! Спорим?
— Спорим!
Вмиг были сброшены рубаха, штаны. Ванюшка разбежался и, сверкнув белыми худенькими ягодицами в воздухе, щукой нырнул в тёмные и холодные воды Вишнёвого омута.
Его товарищи ахнули на берегу, с замиранием сердца стали ждать, когда Ванюшка «вымырнет». А он что-то не появлялся. В том месте, куда он прыгнул, на поверхности воды начали мигать пузыри. По тощим телам ребятишек побежала дрожь. Ещё мгновение, и они дали бы стрекача, но тут из воды вынырнула светловолосая лобастая голова Ванюшки. Ребята помогли ему выбраться на крутой берег. Мертвенно-бледный, с синими, трясущимися губами и окровенившимися выпуклыми глазами, он некоторое время сидел, трудно дыша. Отдышавшись, сорвал с шеи гайтан с медным крестиком и выбросил в омут. На удивлённые, испуганные возгласы приятелей, ответил:
— Через него чуть было не утонул. За корягу гайтаном зацепился.
Мальчишки — Ленька и Кирька Зыбановы, Мишка Зенков и Митька Кручинин, — не долго думая, последовали его примеру, тоже поснимали гайтаны с крестиками. А Митька вдобавок дважды прыгнул в омут и торжественно объявил:
— Больше не боюсь. Никаких тут водяных нету — враки это одни! Завтра же приду купаться. Лопни мои глазоньки — приду!
В тот же день все они были выпороты родителями. Ванюшке, как зачинщику, влетело больше, чем его приятелям, но в отличие от них он не подчинился матери, не повесил на шею вновь креста. На помощь Дарьюшке поспешил Пётр Михайлович, но и это не помогло:
— Не надену, и всё! Хоть убейте, а не надену!
За Ванюшку вступился дед:
— Оставьте его в покое. Бога надо носить не на шее, а вот тут. — И он ткнул себя в грудь.
Ивана дед любил, пожалуй, больше, чем других своих внуков. И не только потому, что он был разумнее, толковее остальных. А ещё и потому, что однажды с дедом и внуком случилось такое, о чем до сих пор Михаил Аверьянович не может вспоминать без дрожи.
В ту пору внуку шёл второй год от роду. В разгар страды его не с кем было оставить дома, и Дарьюшка брала ребёнка с собой в поле. Там она кормила его, а покормив, укладывала в тени, под телегой спать. Степной, сотканный из множества дивных запахов воздух, свист сусликов, жавороночье песнопение, стрекот кузнечиков, волнующий шелест трав, ласкающая воркотня низового ветра в колёсных спицах быстро убаюкивали малыша. Дарьюшка, уже сама чуть не засыпая, допевала колыбельную:
Ах, усни, усни, усни,
Угомон тебя возьми, —
и уходила к косцам вязать снопы.
Как-то Ванюшка проснулся раньше обычного — разбудил саранчук, прыгнувший прямо ребёнку на нос. Ванюшка протёр кулачком глаза, поплакал и, видя, что к нему никто не идёт, сам поковылял к желтеющей высоченной стене не скошенной ещё ржи. Он забрёл и затерялся в ней, как в лесу. Высоко над его головой лениво, сыто шумели тяжёлые колосья, спёртый раскалённый воздух быстро разморил Ванюшку, и, вяло, нехотя всхлипывая, он вскоре споткнулся босыми ножонками о горячий ком, упал, да так и заснул посреди несжатой полосы.
Михаил Аверьянович к тому времени делал с крюком шестой заход. Поводя широкими, раззудившимися и уже не чувствующими тяжести плечами, он выкладывал слева от себя ровные ряды, издали похожие на жёлтые волны. Утомлённые однообразным видением глаза его тупо, разморенно смотрели в одну точку, не замечая почти ничего, кроме мерцающего жала косы. Лишь в последнюю секунду, когда крюк был занесён для очередного взмаха, он увидел под ослепительно вспыхнувшим лезвием остро отточенной, хорошо отбитой косы спящего ребёнка. Отбросив крюк далеко в сторону, поднял внука на руки и спящего отнёс под телегу. И только тут почувствовал, что земля поплыла под ним, поворачивается, опрокидывается куда-то. Ноги подломились, в глазах пошли мутно-красные круги. Упал на землю и, обливаясь обильно выступившим потом, забился в буйном припадке. А когда припадок кончился, молчаливый, бледный, запряг лошадь и увёз семью домой, хотя до вечера было ещё далеко. О случившемся никому не сказал. Не заходя в избу, отправился в сад и долго жевал там кислющие недозрелые яблоки с зерновки.
С той-то поры Ванюшка и был для Михаила Аверьяновича особенно дорог.
19
Штурм Вишнёвого омута начался до восхода солнца и продолжался весь день и всю ночь. После второй кочетиной побудки со всех концов Савкина Затона к некогда недоступному месту устремились парни и девчата. По указанию Ивана Харламова возле Ужиного моста стоял Мишка Харламов и, не переставая, бил в пионерский барабан. От утренней прохлады и от возбуждающих звуков барабана тощенькое тельце мальчугана дрожало. Пионерский галстук рдяно пламенел на тонкой шее.
Мимо барабанщика быстро шли люди с лопатами, топорами, пилами. На ходу они говорили отрывисто, нервно, будто бы и впрямь шли в бой. Некоторые задерживались на короткое время, трепали барабанщика за уши и убегали, догоняя товарищей. Дёргали то за одно, то за другое ухо, судя по выражению лица, ласково, в знак особого расположения. Однако Мишкины уши горели жарким огнём. Но Мишка стоически выносил эту непреднамеренную трёпку, и молотил в барабан всё яростнее, и был рад-радёхонек, что взрослые заметили и, кажется, впервые оценили его усердие на общее благо.
Неподалёку топтались школьные друзья и глядели на барабанщика с нескрываемой завистью.
И только Илья Спиридонович Рыжов, направлявшийся к Вишнёвому омуту скорее из любопытства, нежели для участия в воскреснике, не одобрил Мишкиного энтузиазма, шлёпнул мальчишку по затылку и осуждающе сказал: