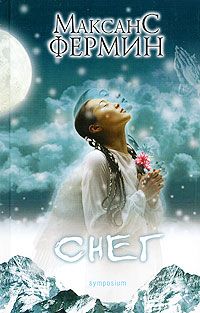Сергей Львов - Гражданин Города Солнца. Повесть о Томмазо Кампанелле
Узник презрительно промолчал. Тот, кто однажды видел казнь, не забудет ее до смерти, а он видел. На площади, все равно где — в Никастро, Катанзаро или Стило, появились плотники. Часть жителей укрылась в домах, ставни захлопнули, другие глазеют, как строится эшафот. Пока плотники устанавливают на нем виселицу и плаху, палач и его подручные ужинают в лучшей харчевне. Трактирщик услужливо подает катам самые вкусные блюда, самое дорогое вино. Платит за них город! Заплечных дел мастера пьют, жрут, хохочут, подшучивают над посетителями. Кусок застревает у тех в горле, но уйти боятся. Каты обещают на завтра знатное представление, сулят застольным соседям местечко, откуда все будет и видно, и слышно. И находятся люди, которые поддакивают веселящимся палачам, пьют с ними, заискивают перед ними. А те начинают обстоятельно проверять свои инструменты. Напоказ. Так им велено. На рассвете по городу проходят глашатаи, бьют в барабаны, громко выкрикивают имена осужденных, место и время казни. В назначенный час площадь полна — одни пришли сами, других пригнали. Палач в щегольской красной куртке с разрезами на рукавах, сквозь которые видна тонкая белая рубашка. Рукава закатаны… Довольно! Он не хочет представлять себе этого! Не хочет, не хочет, не хочет!
— Рассказать вам, как это было? — настойчиво повторяет свой вопрос Ксарава. — Что же вы молчите? — Он уже знает характер узника: тот скорее откусит себе язык, чем откликнется на вопрос, и не для того прокурор задает его, чтобы дождаться ответа. Вестью о казни он хочет поколебать Кампанеллу. Но тот вдруг спрашивает сам:
— И что же они сказали перед смертью?
Теперь молчит Ксарава. Не признаваться же, что, когда приговоренных терзали, терзали так, что с их стонами слился стон толпы, окружавшей эшафот, они продолжали отрицать свою вину, последними словами поносили испанцев и тех, кто им прислуживает, сулили вечные муки и начальнику карательной экспедиции и прокурору.
— Почему же вы молчите, прокурор? — холодно спросил узник. Он не ждал ответа.
Но когда Кампанелла оказался в камере, силы изменили ему. Воображение рисовало эшафоты и плахи, воздвигнутые во всех калабрийских городах, красующихся палачей, терзаемых осужденных, потрясенную толпу. Сколько людей уйдет с места казни, навсегда унося в душе лютый страх, сколько душ впадет в рабское оцепенение после этого зрелища! А почему не подумать об этом иначе: сколько людей унесет с места казни ненависть к палачам и запомнит, какими непреклонными оказались их жертвы? Можно посмотреть на это и так. Но все это размышления, размышления. Ему не с кем поделиться этими мыслями. Самыми страшными для него стали не допросы, а беспрерывные раздумья в одиночестве камеры, мысли, которым не суждено обратиться в дело. Сейчас, когда необходимо действовать, он пойман, заточен, заперт! Кричи — твои друзья тебя не услышат! Бейся головой о стены камеры — ты не пробьешься к ним… Кампанелла с юности верил, что человек, понявший свое предначертание, сильнее обстоятельств. Но толстая дубовая дверь, но каменная кладка стен — тупая, мертвая, косная материя…
Думать о побеге бессмысленно. Кампанеллу в любой тюрьме помещали в камеру, откуда не убежишь. Коменданты знали, что отвечают за него головой. Его охраняла усиленная стража.
Не вырваться… Что за вздор! С тех пор, как существуют темницы, идет постоянное состязание между узниками и тюремщиками. На каждую предосторожность тюремщика находится десять уловок узника, чтобы превозмочь ее. Дедал и Икар бежали даже из лабиринта Минотавра. Даже из Замка Святого Ангела в Риме выбрался Бенвенуто Челлини. Но чтобы бежать, нужны помощники на воле, способ передать им весточку, получить от них ответ. А именно это невозможно. Кампанеллу переводили из одной тюрьмы в другую, нигде подолгу не оставляя, и он, сколько ни размышлял, не мог понять смысла постоянных перемещений. Кроме одного — помешать ему связаться с волей, затруднить побег.
В пути же из одной тюрьмы в другую он был связан, иногда закован, окружен многочисленным конвоем. Кампанелла пробовал заговаривать с испанскими стражниками. Если бы хоть один из них прислушался к нему, если бы хоть от одного из них удалось добиться крошечного послабления, пустячной услуги — это был бы проблеск надежды. На его попытки они отвечали молчанием, бранью, пинками.
Как извращена человеческая природа! Никто не рождается на свет, чтобы стать палачом или конвойным. У каждого конвойного, у каждого палача была мать. Пела над ним колыбельные песни. Пугалась, когда он болел. Радовалась первому слову, которое он произнес. Учила его ходить. У каждого была любимая, потом жена. Были дети. Было все, что есть у людей. И некоторые из них выглядели как люди. Многие стражники были хороши собой. Молодые, веселые, красивые лица, мужественная стать, звучные голоса. Они умели улыбаться, смеяться, петь. Подшучивали друг над другом. Ласково похлопывали своих коней. Гарцевали в седлах. Что же сделало этих людей не людьми, способными ударить связанного пленника, пнуть его сапогом, плюнуть ему в лицо? Что сделало их такими жестокими к слабому и безоружному, такими покорными и робкими перед теми, кто командовал ими? В будущем прекрасном государстве надо добиться, чтобы жестокие и злые вообще не рождались на свет.
А еще Кампанелла думал о том, сколь страшна кара, какой господь бог покарал людей, когда они вознамерились воздвигнуть Вавилонскую башню — башню до неба. Он лишил их единого языка. Люди перестали понимать друг друга. Началось страшное разобщение. Его проклятие тяготеет над людьми до сих пор. В будущем государстве надо сделать все, чтобы люди понимали друг друга, чтобы разные наречия не вставали между ними препятствием.
Неустанная работа мысли, которая не прекращается даже тогда, когда он, связанный или скованный, совершает путь из темницы в темницу, — мука! Неустанная, непрерывная, то горячечная, то ясная работа мысли, — благо. Без нее он сломался бы. Без нее он погиб бы.
Весть о том, что Кампанелла арестован, дошла и до делла Порты. Знакомый, прежде бывавший в его доме, встретил делла Порту при выходе с торжественного богослужения в соборе святого Януария. Знакомый был из тех, кто чувствует себя несчастным, если не может ошеломить или хотя бы удивить собеседника новостью. Близость к источнику новостей порождала в нем чувство собственной значительности. Едва спросив о здоровье делла Порты и не дослушав ответа, он сообщил, что монах, ученостью которого делла Порта был так увлечен, этот самый отец Томмазо замешан в Калабрии в страшном преступлении, но вовремя изобличен и обезврежен. При дворе вице-короля чрезвычайно обеспокоены. Все куда серьезнее, чем можно было ожидать. Подумать только, кто скрывался в обличье скромного доминиканца! И знакомый, довольный своей осведомленностью, поспешно оставил делла Порту, чтобы поделиться новостью с другими. А ученый едва дошел до дома. Кампанелла снова в тюрьме! В чем его винят на этот раз? Расспрашивать доброхотного переносчика вестей он не захотел — отвратительной была его радость. Несчастное время! Джордано Бруно томится в заключении уже который год. Некогда восхищавшиеся им теперь забыли даже о самом его существовании. Кампанелла, мудрец, философ, поэт, лишился свободы. Делла Порта вспомнил лекции, которые читал Кампанелла молодежи, свои беседы с ним и в его первый приезд в Неаполь и во второй, недавний. Какое наслаждение общаться с этим человеком! Великий ум, светлая душа… И вдруг его обдала холодом тревога — не пришлось бы теперь расплачиваться за такое наслаждение. Он стал припоминать, о чем они говорили с Томмазо. Любую их беседу при желании можно истолковать как еретическую! Но как прикажете говорить ученым, чтобы их слова ни в чем не вышли за рамки предписанного! Тогда уж лучше вступить в орден молчальников. Положить печать на уста. Запретить руке писать. И голове думать. А еще лучше совсем не становиться ученым. Еще лучше не рождаться совсем. Тот, кто не родился, не может впасть в ересь. О чем они все-таки говорили с Кампанеллой при последней встрече? Кто присутствовал при разговоре? Вспомнить бы. А зачем? Сделать ведь ничего нельзя! Ни ему помочь, ни себя спасти. Несчастное время!
Глава XLVII
Дионисий и Мавриций после нескольких дней, когда они скрывались порознь, встретились и решили не разлучаться. С проводниками-фуорушити по горным дорогам поспешно уходили от преследователей. Круты тропы, холодны ночи, скудна еда, но тяжелее всего — боль неудачи. Дионисий прихрамывал, повредил ногу, тяжело опирался на огромный ясеневый посох. Мавриций был в неистовом напряжении. План их рухнул. Испанский флот опередил турок. Даже самые смелые из фуорушити, узнав, какие силы привел каратель Спинелли, затаились в укрытиях. Мавриций и Дионисий надеялись собрать силы, чтобы освободить Кампанеллу. Заговор, лишенный вождя, не заговор. Но как? Напасть на тюремный замок фуорушити не могут. Эти крепости выдержали и не такие осады. От верных людей стало известно — Кампанеллу переводят из одной тюрьмы в другую. Отбить его? Но власти предвидели и это. Они пригрозили: солдатам отдан приказ прикончить узников, если будет совершено нападение на конвой. Единственное, что оставалось, — скрыться, выиграть время, найти таких, кто еще верен им, подготовиться, начать все сначала. Если можно спасти Кампанеллу, то только так.