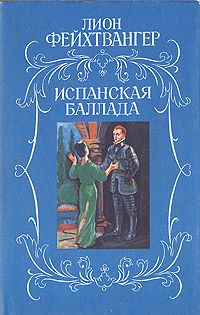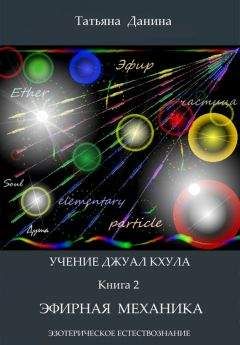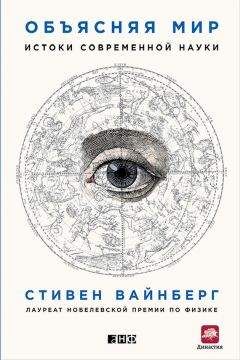Лион Фейхтвангер - Испанская баллада (Еврейка из Толедо)
Ее расчет был построен на том, что Альфонсо обязательно согласится на такое возмещение, раз от этого будет зависеть возможность крестового похода. Если же он отнимет кастильо у Иегуды, заносчивый еврей не стерпит такой обиды, и разрыв с семейством Ибн Эзра будет неизбежен.
Дон Педро растерялся. Такого рода уступка, конечно, многое бы загладила. Он чувствовал на себе молящий взгляд благородной женщины. И ему глубоко запал в душу её намек, что это будет воистину рыцарским служением даме сердца, если он вырвет Альфонсо из когтей дьяволицы. Его искренне растрогала скорбная кротость нежной и печальной королевы. Он поцеловал ей руку и сказал, что обдумает её слова с самым дружеским расположением; он не мечтает о лучшей участи, как идти воевать во имя Христа и во имя ее, доньи Леонор.
После того как Ракель возвратилась в Галиану, дон Альфонсо почувствовал, что никогда еще так её не любил. Когда он смотрел на её тонкое лицо, ему становилось стыдно своей грубости; ведь она была дама, дама его сердца, а он учинил ей такое бесчестье и насилие. Но в другие разы именно воспоминание о том, как он сломил её отчаянное сопротивление, наполняло его жестоким сладострастием. В нем поднималось неистовое желание опять унизить ее, и когда она самозабвеннее, чем он, отдавалась объятиям, он испытывал злое торжество.
При этом он был ей благодарен за то, что она ни единым словом, ни малейшим жестом не напоминала о тех тягостных минутах. Едва вернувшись, она испуганно спросила его, чем он поранил руку, потому что царапины и порезы от осколков мезузы заживали очень медленно. Он ответил уклончиво и был доволен, что она не стала расспрашивать дальше; не спросила она и о том, почему засыпаны землей цистерны рабби Ханана.
На самом деле она вовсе не забыла тех минут. Но все случилось так, как она и желала и боялась: в его присутствии оскорбление уже не было оскорбительно, грубость уже не казалась грубостью. И даже порой, лежа в его объятиях, она мечтала вновь увидеть лицо дикаря, какое было у Альфонсо в те безумные мгновения.
Ее надежды изменить его, из рыцаря превратить в человека, оказались так же тщетны, как тщетно волны бьются о скалу. Да она и не жалела об этом: ей был люб и рыцарь. Его худое, костлявое, словно выточенное грубым резцом, мужественное лицо, присущее ему сочетание грации и угловатости не переставали волновать её кровь.
Всем остальным книгам Библии она теперь предпочитала Песнь Песней[131] и велела повесить на стене своей опочивальни взятый из неё стих:
«Ибо крепка, как смерть, любовь... стрелы её — стрелы огненные. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее».
Она перевела этот стих Альфонсо, он выслушал очень внимательно. Попросил повторить, прочесть стих по-еврейски.
— Неплохо звучит, — заметил он, — даже очень хорошо.
С тех пор как она подарила ему арабские доспехи, он знал, что она любит и Альфонсо-воина. Но он не зря ревновал её к отцу и старику Мусе, ибо чувствовал, что разум её отвергает в нем все по-настоящему хорошее и героическое. С жаром и даже со страстью старался он раскрыть ей себя. Война — это божья заповедь, а воинская слава для мужчины — самая высокая цель. Лишь в войне обнаруживается лучшее в отдельном человеке и в целом народе.
Ведь и у евреев были Самсон и Гедеон[132], Давид и Иуда Маккавей[133]. И как может король править, не воюя? Королю нужны верные соратники, и они ждут от него заслуженной платы. Значит, ему необходимы все новые земли, чтобы раздавать им в награду за верную службу, а где же взять земли, как не у врага? На то король и поставлен от бога, чтобы брать добычу и приумножать свои владения. Он-то, Альфонсо, знает меру, он не такой алчный, как его тесть Генрих Английский или же римский император Фридрих, он не собирается завоевывать весь мир. Все, что по ту сторону Пиренеев, ему не надобно. Он желает владеть одной лишь Испанией, но её он желает иметь всю полностью, как христианскую, так и мусульманскую.
Дерзновенным и страшным, как рок, казался он Ракели. Неотразимый и грозный соблазн исходил от этого отпрыска франкских и готских варваров, убежденного, что ему, одному ему, господь судил владеть всем полуостровом.
Он рассказывал ей о высоком и благородном ратном искусстве, которое он изучил до основания, до тонкостей. И пусть он и сейчас не стал еще ни Александром, ни Цезарем[134], все равно он родился полководцем. Врожденным чутьем он знал, когда пускать в дело легкую конницу, а когда тяжелую, с первого взгляда мог определить достоинства поля битвы и, как никто другой, умел отыскать такое место для засады, откуда лучше всего врасплох застигнуть врага. И если он не всегда выходил победителем, то лишь оттого, что ему недоставало одной-единственной скучной добродетели, потребной для полководца, — терпения.
Выслушав его рассказы о том, сколько он выиграл кровавых битв, сколько поверг врагов, она почти всегда говорила не то, что он ожидал.
Например, она спрашивала:
— Сколько, ты сказал? Три тысячи с вражеской стороны и две тысячи с твоей?
И в её вопросе слышался не упрек, а скорее тягостное недоумение.
А то просто уходила в себя, замыкалась в упрямом одиночестве, из которого он не мог её вырвать. Хуже всего бывало, когда она только молча смотрела на него. Это было красноречивое молчание, язвившее больнее, чем гневный укор.
Однажды её молчание вызвало у него злобную вспышку:
— Знаешь, кто разбил стекло на твоей священной мезузе? Я. Вот этой самой рукой. И цистерны твоего рабби Ханана тоже я велел засыпать. Так и знай.
Она ничего не ответила. Тяжело дыша, он встал, прошел несколько шагов, вернулся, снова сел рядом с ней и заговорил о чем-то другом. Остановился и хотел попросить прощения. Она ласково закрыла ему рот рукой.
Хотя Альфонсо страстно ненавидел то, что было в ней чуждого, он знал, что обречен ей, обречен навеки.
«Et nunc et semper et in saecula saeculorum, amen»[135], — кощунственно пробормотал он про себя. Он сам обрек свою душу на погибель, ибо теперь ясно видел, что Ракель ему никогда не обратить в христианскую веру. Пожалуй, так и лучше. Все равно он не вырвется из заколдованного круга, в который сам заключил себя; и он, ожесточившись, упорствовал в своем грехе.
Каноник дон Родриго больше не заговаривал с ним о Галиане. Это не имело никакого смысла. Они высказали все, что может в таком вопросе один человек сказать другому. Однако, хотя Альфонсо и считал свой грех королевской привилегией, которую не смеет у него оспаривать никакой священнослужитель, его все-таки мучила молчаливая скорбь каноника, искреннего его друга, и он ломал себе голову, чем бы доказать тому свою любовь и признательность.
Не посчитавшись с архиепископом, он издал указ, по которому в его владениях взамен испанского летосчисления вводилось римское, принятое во всех прочих западных государствах.
Радость и благодарность пересилили в доне Родриго укоризненную печаль.
— Ты правильно поступил, дон Альфонсо, — признал он.
Архиепископ, не осмелившийся порицать короля за его нечестие, с особым жаром ополчился теперь против нового закона. Он упрекал Альфонсо, что тот без особой необходимости, единственно ради удобства каких-то иноземцев, отбросил одну из важнейших привилегий испанской церкви. Никто из его предков с такой легкостью не отмахнулся бы от этого ценного преимущества. Альфонсо понимал, что не в законе дело, что архиепископ горячится так из-за Галианы, и потому очень сурово одернул хулителя. И так уже он, Альфонсо, отклонил немало куда более каверзных папских притязаний, и теперь ему только приятно в таком маловажном деле ублажить святого отца. К тому же Рим и прав. Испанцы проявляют поистине нехристианскую гордыню, ведя летосчисление от величайшего события в своей собственной истории; конечно, очень важно, что император Август даровал им права гражданства, но как-никак рождество Христово было для всего мира, а значит, и для их полуострова, еще более значительным событием.
Однако удовлетворение, доставленное скорбящему Родриго, недолго радовало короля. Загнанный внутрь грех не переставал жечь его. Как-то утром, после ранней обедни, он огорошил капеллана королевского замка вопросом:
— Объясни мне, досточтимый брат, что это, собственно, такое — грех?
Священник, человек еще не старый, был польщен удивительным вопросом дона Альфонсо.
— Дозволь мне, государь, привести суждение святого Августина, — ответил капеллан. — Грех, говорит он, это совершение таких поступков, о коих человеку известно, что они запрещены, и от коих он волен воздержаться.
— Благодарю тебя, досточтимый брат, — промолвил король.
Он долго думал над изречением великого отца церкви, потом пожал плечами и успокоился на том, что крестовым походом избавит себя от греха, если допустить, что он творит грех.