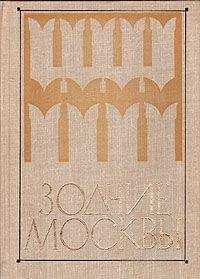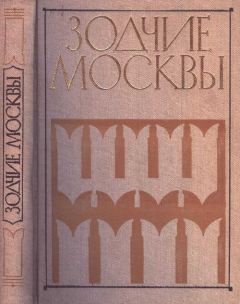Александр Волков - Зодчие
Воздух в Грановитой палате сделался душен, свечи едва горели среди испарений от питий и кушаний. В тумане мелькали раскрасневшиеся бородатые лица, расстегнутые шубы; под ноги попадали потерянные владельцами шапки. Ноги скользили по лужам от пролитого вина и меда…
Голован разбудил своего старого учителя. Они вышли на свежий воздух, вздохнули с наслаждением и, пошатываясь, добрели до кремлевских ворот; там ждал их с лошадьми Филимон.
– Вот так пир!.. – бормотал Голован.
Глава III
Поездка в Выбутино
Казанский поход принес многочисленные награды отличившимся ратникам и воеводам; не забыл царь и тех, кто, оставаясь в тылу, неустанным трудом готовил победу.
Федор Григорьевич Ордынцев «за доброе смотрение над Пушечным двором» и за то, что отлитые им пушки оказались хороши, был пожалован саном окольничего.
«Эх, отец не дожил, вот бы порадовался!» – подумал Ордынцев, когда ему сообщили о царской награде.
Голован за усердное и умелое руководство строительными работами при осаде Казани получил звание государева розмысла. Теперь путь на родину был ему открыт. Он уже не беглый монастырский крестьянин, а строитель, заслуги которого отмечены царем. И Голован немедленно после получения царского указа собрался в путь.
По возвращении из Казани Андрей поселил наставника и его приемную внучку в своей избе, а сам ютился в людской. Но насмешки дворни так надоели зодчим, что они решили на время увезти Дуню в Выбутино, к родителям Андрея.
Ясным январским днем 1553 года выехали из Москвы Андрей, Никита и Дуня.
Дуня ехала на маленькой косматой лошадёнке. Девушка тепло укуталась в беличью шубку; из-под меховой шапки весело глядело разрумяненное морозом лицо. Все нравилось ей на Руси: и огромный город, который она только что оставила, и сосновый бор с ветвями, осыпанными снегом, и новая теплая шубка, и лошадка Рыжуха, спокойно трусившая по гладкой дороге… Дуня не знала, что ее беспричинная радость навеяна чувством юной любви. Но когда на нее с улыбкой взглядывал Андрей, девушка смущенно опускала глаза.
После семнадцати дней утомительного пути подъезжали к Выбутину вечерней порой. Сердце Андрея билось неровно; его сжимала сладкая боль: вот она, родина, милая, покинутая… Двенадцать лет не был он дома!
Показалась длинная улица, растянувшаяся вдоль Великой, теперь скованной льдом, занесенной глубоким снегом.
Голован искал глазами родную избу. Вот и она… Какой маленькой она показалась!
Андрей вошел в избу, навстречу поднялись сумерничавшие старики.
– Кого бог нанес? – спросил Илья.
Но материнское сердце уже признало вошедшего.
– Андрюшенька! Кровинушка! – Афимья с плачем бросилась к сыну.
– Батя! Мамынька!..
Голован поклонился в ноги отцу с матерью. Они обнимали его, целовали. Афимья начала причитать по обряду, но в этом причитании слышалась великая радость матери, снова увидевшей сына.
Отец сильно изменился за протекшие годы. Он стал ниже Голована, волосы его совсем побелели.
– Андрюшенька! Маленький мой!.. – разливалась около сына Афимья.
Илья спохватился первый:
– А на дворе, Андрюша, что за люди?
– Ох я безрассудный! Там Булат, наставник мой!
– Булат? Жив?! А мы его по твоим грамоткам за упокой записали, поминанье подавали…
Илья выбежал на улицу, пригласил спутников сына.
Зажгли лучину. Изба наполнилась шумом, движеньем. Булат покрестился перед иконой, облобызался с хозяевами. Смущенная Дуня стояла возле двери.
– А это кто же с вами, девка-то? – тихонько спросила Голована мать.
Булат расслышал вопрос:
– Это? Это мне дочку бог послал в чужой земле.
Дуня заплакала. Афимья женским чутьем поняла, как тяжело и неловко девушке у чужих, незнакомых людей. Старушка обняла ее, ласково повернула к себе:
– Славная моя, бастенькая![180] Годков-то сколько тебе?
Дуня смущенно молчала.
– Чего ж робеешь, касаточка? Пойдем-ка, я тебя обряжу по-нашему, по-хрестьянски!
Через несколько минут все ахнули: за Афимьей вошла в избу стройная высокая девушка с толстой русой косой, в нарядном сарафане, с ожерельем на груди. С миловидного лица смотрели заплаканные, но уже улыбающиеся глаза.
– Вот! – привскочил с лавки Илья Большой. – Ай да сынок! Гадал поймать сокола – словил серу утицу!
Андрей смутился и бросился доставать привезенные родителям подарки. Матери с поклоном подал персидскую шаль, а отцу – теплый кафтан.
Старики обрадовались, как дети.
– Теперь я этот плат в праздники стану надевать, – говорила Афимья, пряча подарок в укладку.
А Илья нарядился в кафтан и повертывался, стараясь казаться молодцом.
– Справский кафтан, хошь бы и не мне носить, а самому тиуну! Ну, спаси тебя бог, сынок!
Голован с грустью смотрел на когда-то могучего отца, сильнее которого, казалось, не было никого на свете…
Стали укладываться спать. Дуня со старухой забрались на печку, а мужчины легли на полу.
– Ну, теперя, сынок, все поряду сказывай! – молвил Илья, обнимая шею сына здоровой рукой. – Шутка ли: двенадцать годов прошло, как тебя не видали! А все денно-нощно о тебе думали…
– Поличье, что ты с меня списал, я доселе храню, – улыбнувшись сквозь слезы, отозвалась старая Афимья.
Разговор продолжался всю ночь. Усталая Дуня заснула, доверчиво прижавшись к Афимье, а остальные не сомкнули глаз.
Голован объявил отцу, что прогостит в Выбутине недолго. Старики не спорили: они понимали, что такой сын, как Голован, – отрезанный ломоть. Зато как обрадовались они, когда Булат попросил разрешения оставить у них Дуню.
– Есть у меня заветная думка побродить по Руси с Андрюшей, покуда ноги носят, – объяснил он Илье. – А коли нас не будет, где девке приют найти? Разве можно на Москве жить одной! Много лихих людей – изобидят сироту.
– Да господи, – заторопилась Афимья. – мы уж так рады!
– Как ты, ласковая, мыслишь? – спросил Дуню Илья.
– Я останусь, – потупилась девушка.
– Ну вот и хорошо! Будешь у меня отецкая дочь!
– А мне сестрица! – добавил Андрей.
Никита бросил на него испытующий взгляд, но парень был спокоен, и ничего, кроме братской нежности, не увидел старик на его лице.
Игумен Паисий, сильно постаревший, но еще бодрый, приехал поздравить Голована с приездом. До хитрого монаха дошли вести, кем стал Андрей, и он понимал, что царского розмысла ему не притеснить. Он даже обещал дать всяческие послабления его семье.
Отъезжая, Голован оставил родителям тридцать рублей из денег, что скопил на выкуп наставника. Отец обнял сына:
– Нам этого вовек не прожить!
Прощаясь, Булат обнял внучку:
– Прощай, Дунюшка! Не горюй, слушайся новых батьку с маткой, а мы, как можно станет, за тобой пришлем.
Голован тоже подошел к Дуне:
– Прощай, сестричка!
Он обнял и поцеловал Дуню. Девушка покраснела так, что, казалось, вот-вот брызнет кровь сквозь румяные щеки.
Глава IV
Царь и митрополит
Прошел год со времени покорения Казани.
В ноябре 1553 года царь посетил митрополита. Когда его крытый возок остановился у красного крыльца, на митрополичьем дворе поднялась суматоха. Забегали митрополичьи бояре, стольники и спальники. Показался в дверях и сам Макарий, тонкий, согбенный; он спешил приветствовать дорогого гостя.
Царь отпустил приближенных митрополита и сказал:
– Хочу с тобой, владыко, в благодатной тишине побеседовать.
– Доброе дело! Пойдем в моленную.
Прошли в полумрак комнаты, освещенной лампадами.
На потолке колебались отражения огней. Было тепло, пахло ладаном. Дюжий служка ворошил дрова в печи, из-под кочерги брызгали искры.
– Выйди!
Служка бесшумно удалился.
Владыка посадил царя в глубокое кожаное кресло, сам скромно сел на низенькую деревянную скамейку.
Царь долго молчал, наслаждаясь покоем; заговорил тихо, доверчиво:
– Раздумался я, отче, о судьбе человеческой, о своей жизни, о том, что свершил я и что свершить осталось… и потянуло к тебе!
– Челом, государь, за сие бью! – Макарий привстал, поклонился. – Что держишь на мыслях, сыне?
– Много раз вспоминал я, владыко, о словах твоих, что были сказаны в прошлом году на пире. Память вещественную, сказал ты, надо оставить о славном походе и о воинах русских, сгибших под Казанью. Держал совет я с людьми, и надумали мы поставить храм – памятник в честь казанского взятия… Али, может, всуе[181] думы мои, владыко пречестной, гордыня обуяла?..
Царь нетерпеливо всматривался в спокойное лицо митрополита, слабо освещенное мерцающим огнем лампад. Макарий ответил на вопрос задумчиво, потихоньку перебирая янтарные зерна лежавшей на его коленях лестовки:[182]
– Жития нашего время яко вода, дни наши, яко дым, в воздухе развеваются. Но коли мыслишь оставить о наших днях память вещественную, греха в том, сыне, не вижу!