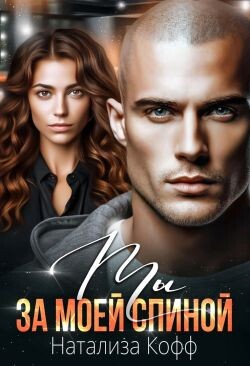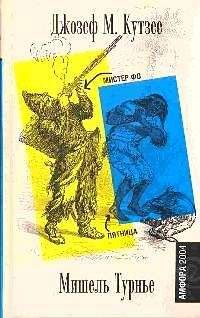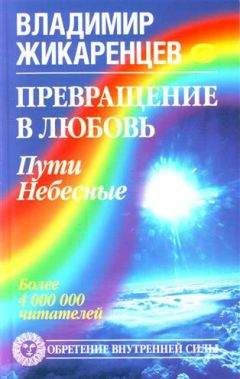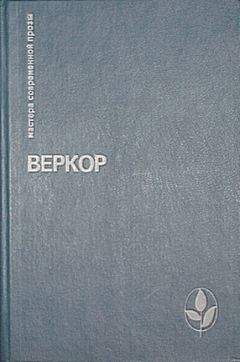Молчание Шахерезады - Суман Дефне
Что ж, сейчас и увидим!
От выпитого в голове у него все смешалось, он не чувствовал ничего, кроме злости, которую и не думал усмирять. Перепрыгивая через несколько ступенек, взбежал по мраморной лестнице и что есть силы заколотил в дверь. Пусть только не откроют – выломает! Но не успел он и трех ударов сделать, как дверь отворилась. Он ожидал увидеть перед собой одну из тех служанок (хоть Василики, хоть Ставрулу), которые постоянно жили в доме и которые каждый раз, когда Авинаш приходил к Эдит, встречали его, украдкой посмеиваясь. Он уже представлял, как оттолкнет озадаченную девушку с пути и вихрем помчится к спальне Эдит, чтобы застать ее с любовником. Но когда вместо служанки дверь ему открыла сама Эдит, у него заплелись ноги и он чуть было кубарем не скатился по лестнице.
Как бы пьян он ни был, он заметил, что под бежевой накидкой, которую Эдит второпях набросила на плечи, не было ничего, кроме белой ночной рубашки на тонких лямках. Волосы ее разметались по плечам, спадая волнами до самой поясницы; прежде чем спуститься к двери, она успела схватить светильник, тени от которого теперь играли на ее лице. Она была прекрасна. Гнев поднимался огненной волной.
Эдит поймала пошатнувшегося Авинаша за руку, затем, ни слова не говоря, провела его в гостиную, где все еще горел камин, усадила на покрытый овечьей шкурой диван и попросила служанок, разбуженных всем этим шумом, подать чай.
Той лунной майской ночью, сидя у камина в гостиной Эдит, Авинаш явственно понял две вещи.
Во-первых, он никогда не сможет оставить Эдит. Он готов сделать все что угодно, только бы она была частью его жизни; готов играть в эту игру по ее правилам. Не хочет выходить за него – и не надо; захочет переехать в другую страну – он уедет вместе с ней. Он знал, что это сильно опечалит его оставшихся в Бомбее родителей, но он согласен был на жизнь рядом с Эдит, даже если у них никогда не будет детей. (Авинаш полагал, что, если женщина ни в какую не желает выходить замуж, вряд ли она захочет и становиться матерью.) Во-вторых, от этой ревности, ядом растекавшейся по венам, ему никогда уже не избавиться, до тех пор пока он любит Эдит, как не избавиться ему и от чувства, что чего-то в их отношениях не хватает.
Не было в постели Эдит никакого другого мужчины. И не будет. Не обжигающая страсть, а спокойствие, нежность и какая-то тоска – вот что наполняло их занятия любовью в ту ночь, и тогда-то Авинаш понял, что эта женщина, отказавшаяся стать его женой, останется ему верна до конца своей жизни. Незачем Авинашу переживать из-за каких-то там немецких офицеров, армянских интеллигентов или турецких мальчишек, потому что главным его соперником была лишь любовь Эдит к одиночеству.
Почувствовав прикосновение к своему лицу, он очнулся, вырвавшись из плена воспоминаний, и поднялся на ноги. Была уже почти половина восьмого. Нет времени сводить счеты с прошлым. Если Эдит не хочет ехать на бал к Томас-Кукам, значит, он поедет один. Но что это? Эдит-то, оказывается, давно уже надела туфли и с очаровательной улыбкой ждала его.
Христо проводил их до двери. На улице было до того холодно, что даже звездный свет, казалось, замерзал по пути к земле. На набережной уже сейчас начали пускать новогодние фейерверки. Воспользовавшись отсутствием луны, Млечный Путь и звезды, привольно раскинувшись на небосводе, не переставали подмигивать людям. Укутавшись в меховое манто, Эдит подцепила Авинаша под руку и прижалась к нему. Обернутую чалмой голову она немного наклонила вниз. Во всем городе не шевелился ни единый лепесток. Без ветра город окутало странное спокойствие, не нарушаемое даже разрывами фейерверков; в воздухе висели разноцветные светящиеся шары. На Англиканской церкви забили колокола, возвещая скорое наступление нового года.
Авинаш с Эдит шли по вымощенной известняком дороге, которая вела на Вокзальную площадь, – шли, не говоря ни слова, как муж с женой, давно высказавшие все слова.
Самоубийство
Сюмбюль, раскачивающуюся на обмотанном вокруг шеи шелковом поясе, обнаружила именно я. Она повесилась в своей башне на одной из балок. Ее светловолосая голова свисала на грудь под странным углом, как у тех устроителей покушения на Мустафу Кемаля, которых как раз в то время казнили и чьи фотографии на виселицах печатались во всю страницу в газетах. Ее белое нагое тело тихонько качалось под дуновением залетавшего с улицы ветра, как будто в такт какой-то песне, а бледные ноги ударялись друг о друга, отбивая ритм. В луче солнечного света, проникавшего в башню сквозь зарешеченное окно, весело кружились в воздухе пылинки, как будто бросая вызов смерти.
– Боже, откуда она только взяла этот пояс? – со стоном вопрошал Хильми Рахми, рухнув на колени возле стопки толстых книг, упавших в момент, когда Сюмбюль толкнула их ногами.
Как же так? Мы же вместе убирали комнату, прежде чем сделать Сюмбюль ее узницей. Чтобы, снова оказавшись под властью призрака, она, не дай боже, не навредила себе или кому-то из нас, мы унесли веревки, ножи и все острое, не оставили даже спичек. Сосуды с водой, к которым снизу были приделаны крошечные латунные краники, Хильми Рахми закрыл сверху досками, на случай если ей вздумается утопиться. Шелковые платки и те приказал собрать, а то, мол, свяжет один с другим да повесится. По этой же причине на ее выкрашенной розовой краской кровати не было простыней и спала она на голом матрасе. С наступлением вечера я поднималась в башню и сама зажигала длинной лучиной прикрепленный к потолку светильник. Висел он высоко, и Сюмбюль было его не достать. Правда, встань она на стопку книг, она бы дотянулась, но, в отличие от того доктора по нервным недугам, я совершенно не верила, что бедняжка может надумать спалить дом.
– Боже, откуда она только взяла этот пояс?
Я прислушалась, ища в голосе Хильми Рахми хоть малейший намек на то, что он подозревает меня. Но никакого намека не было. До чего же все-таки мужчины, по сравнению с женщинами, бывают иногда невинными и простодушными, как дети. Только как в таком случае объяснить, что все то зло, свидетелем которого я была, исходило всегда от мужчин? Как же так получается, что вот эти самые мужчины, которые настолько невинны, что не в силах разгадать женские уловки, оказываются виноватыми в стольких зверствах?
– Видимо, мы забыли проверить карман ее халата.
Обрезав пояс, мы сняли крепкое, дородное тело Сюмбюль, которое теперь лежало у нас на коленях, но с балки так и свисал завязанный узлом обрывок шелковой ткани. Неужели вот эта тонкая лента и лишила ее жизни? Я не могла в это поверить. Как же хрупок человек, и как легко настигает его смерть!
Но, конечно же, не у всех сердце и ум были такими же чистыми, как у Хильми Рахми. Не успели мы похоронить Сюмбюль, как про меня уже поползли слухи; я закрылась в башне, но грязные шепотки собравшейся в нашем особняке толпы долетали и дотуда. Да, это правда. Я действительно каждую ночь проводила в постели мужа Сюмбюль. Каждую ночь я с нетерпением ждала, как его тонкие длинные пальцы коснутся моей кожи, как все те человеческие чувства, которые он всегда подавлял, найдут-таки выход, проникая не только в мое тело, но и в душу. Теперь, когда я уже старуха, скрывать это все нет нужды.
Когда мы занимались любовью, пот на наших сливавшихся воедино телах смешивался, и запах его, с нотками роз и благовоний, повисал, как облако, над спальней; мы не произносили ни звука вслух, но на вершине наслаждения слова, стоны и крики взрывались внутри нас яркими искрами. И тогда Хильми Рахми, не в силах удержаться, шептал мне на ухо о своей любви, вот только не знаю, предназначались ли эти слова мне, Сюмбюль или какой-то другой женщине. Уткнувшись своим пахнущим табаком лицом мне в шею, прижавшись сохранившими привкус выпитого ракы губами к моему уху, он все нашептывал мне что-то, и слушать его для меня было даже приятнее, чем плыть в реке темного, сладкого удовольствия, о существовании которой в себе я прежде и не догадывалась.