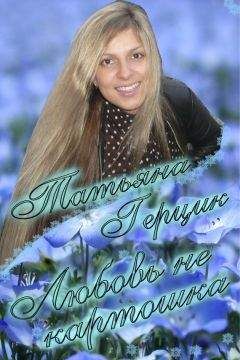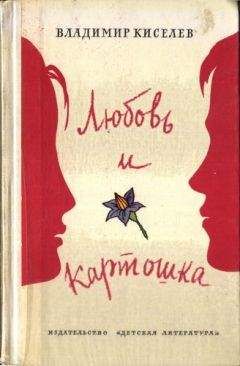Илья Сельвинский - О, юность моя!
— Ура-а!.. — закричали гимназисты, после чего выступил корнет Алим-бей Булатов.
Этот обошелся без носового платка.
— Орлы! — привычно закричал корнет. — Завтра в восемь утра вам надлежит быть во дворе гимназии. Отсюда вас поведут на Соборную площадь, где вы присоединитесь к карательному отряду. Призываю вас к доблести! Герои заслужат награду, а дезертиров будем расходовать.
Первым дезертиром оказался Леська. Из гимназии он отправился домой, переоделся в рыбацкую робу и пошел на Пересыпь. К нему вышла Катя и застенчиво остановилась в дверях.
— Майор здесь?
— Здесь. А что?
— Позови его. Срочно.
Через десять минут все трое шагали по направлению к каменоломням и несли по связке сырой рыбы на куканах. Их остановил казачий патруль, по Голомб сказал, что его фамилия Белоус, что живет он в деревне Богай и возвращается со своими родичами с рыбной ловли.
— А документы?
— Вот документы, сказал Голомб, показывая улов,— пять минут назад была живая.
Старшой понюхал рыбу, одобрительно кивнул головой и роздал ее казакам.
— Возражать не положено? — наивно спросил Голомб.
Казаки рассмеялись. Леська и Катя тоже. Дружелюбие было исключительным.
— Что и требовалось доказать, — сказал Леська, когда они отошли шагов на двадцать.
В деревне Богай Голомб повел друзей в дом некоего Белоуса, и тот по подземному ходу, ведущему из колодца, вывел их к Петриченко.
Никифорыч выслушал Леську очень внимательно.
— Спасибо тебе, Елисей. Только как же ты вернешься домой на ночь глядя? Лошадь я тебе сейчас дать не могу.
— Пусть переночует у Белоуса, — сказал Голомб.
— Нет, я останусь здесь.
— Но ведь завтра с утра начнется большое дело.
— Тем более.
— Ну, как знаешь, старик, как знаешь.
Петриченко ушел к бойцам, а Белоус начал показывать новоприбывшим апартаменты «Красной каски»...
— Вот тут столовая. За этой пещерой, вон там, видите, — из камней выложены вроде как бы ложи, а внутри сено. Это госпиталь. А дальше будет мертвецкая.
— Очень хорошо, — сказал Голомб, искоса поглядев на Белоуса. — А где же, на минуточку, синематограф?
— Не шути, Майор, — сказал Белоус. — Время сурьезное.
Потом повернулся к Леське:
— Ну, так как же, гимназист? Пойдешь ко мне ночевать?
— Зачем же именно я? Что я, белоручка? Вы бы девушке предложили.
— Девушка останется здесь, — сказала Катя.
— Ну и я здесь.
Белоус пожал плечами и ушел.
Трое друзей получили новенькие японские винтовки и на каждого по патронной сумке. Спали они в госпитале на сене, каждый в своей ложе.
Утром проснулись от ожесточенной перестрелки: пикеты заметили, что Белоус бродил над каменоломнями и указывал офицерам душники. Часовые открыли огонь, офицеров скосили, а раненого предателя втащили в катакомбы.
— Что ты успел выдать?
— Я не виноватый... Меня заставили... Офицеры.
— Что ты успел выдать?
— Совсем немного... Пару душников...
— Много у беляков войска?
— Скажу, если пообещаешь жизни.
— Нет, этого обещать не могу: сам знаешь, что надо делать с предателями.
— Ага. Значит, до свиданья, Иван Никифорович?
— Выходит, так.
Белоус помолчал, глубоко вздохнул и произнес:
— Да, предателей нужно уничтожать.
Потом добавил:
— Дайте хочь стакан водки.
Водку ему дали.
— У беляков войска много: офицерский карательный отряд, казаки с Кубани, немцы-колонисты...
Белоус умирал. Голос его звучал все тише, слова все невнятней.
— Водки хочу... Знаю, что помру... А все-таки лучше от водки, чем от родной пули.
Дали полстакана.
— Из колодца... не пейте, ребята. Он... отравленный...
Это было самое страшное. Страшнее казаков, колонистов и офицеров. Петриченко тут же поставил двух часовых у бочки с водой. С этой минуты вода выдавалась по кружке в день.
Леське и Кате поручили наблюдательный пункт № 11. Из него хорошо просматривалась дорога на Евпаторию. Леська видел, как по этой дороге двигались к деревне Богай карательные войска: конница, пехота, наконец, легкая артиллерия. На одной из пушек сидел верхом Полик Антонов и весело махал рукой. Очевидно, шедшие за пушкой гимназисты пели.
Начался артиллерийский налет. Стреляли трехдюймовками с вокзала за восемь верст. Стреляли из района Майнакской грязелечебницы — это еще дальше. Стреляли миноносцы, которые ушли с евпаторийского рейда и стали на якорь как раз против каменоломен. Но орудия только пристреливались, и весь удар пришелся на деревни Агай, Орта-Мамай и Богай. Пылали хаты, амбары, сараи. Жители выбежали на улицу. Волоча раненых, с воплем и криками неслись они в каменоломни. Петриченко впустил их и распорядился выдавать отныне воду только по чашке.
Офицеры беженцам не препятствовали: благодаря им они засекали выходы. Потом заговорили пушки, выставленные против этих засеченных нор. Вскоре, однако, выяснилось, что снаряды не в состоянии разбить каменоломен: они обрывали глыбы, разбрызгивали камни, но вся толща катакомб не испытывала никакого урона.
Леська с Катей сидели у своего душника и уныло глядели на чадящую деревню. Время от времени к душнику прибегал Голомб.
— Между прочим, Бредихин, тебя очень хотит видеть один человек. Он говорит, шо он большой твой приятель.
— Кто такой?
— Не знаю. Какой-то цыганенок.
— Неужели Девлетка?
— Может, и он.
— Как же он здесь очутился?
— А почему же нет? У нас тут кто хотишь. Умирать за революцию никому не воспрещается.
— Умирать? — спросила Катя, высоко подняв брови. — Это с какой же стати?
— Молодец, Галкина тире Голомб! Вот это настоящая жена революционера.
Ночью снова гремели пушки, привезенные карательным отрядом. Они стреляли по входам прямой наводкой из боязни вылазки партизан. Снова заработала артиллерия дальнего действия. Море вспыхивало каждые пять минут. Утром выяснилось, что все выходы из каменоломен были затянуты колючей проволокой.
— Вот мы и в мышеловке, — сказала жена Ивана Тимофеевича Мария.
— Это не самое плохое, — задумчиво ответил Петриченко. — Мы проволоку не трогаем, и она нас не тронет.
— А что хуже?
Петриченко не ответил. На третий день он приказал выдавать воду только женщинам и детям. Катя считала себя бойцом и от воды отказалась.
— Значит, ты теперь не женщина? — спросил Голомб.
— Выходит, нет.
— А на ком же я тогда женился?
Юмор не покидал Голомба ни на минуту. Иногда это раздражало. Хотелось остаться наедине со своей тоской. Но Голомб ходил среди бойцов и шутками заставлял их бодриться. Леська вспомнил, что примерно так же держал себя и Гринбах, но у Самсона это выходило как-то уж очень искусственно, а для Майора шутка была его второй натурой.
Однажды он принес Кате полчашки мутной воды.
— Где взял?
— А какое твое дело?
— Часовых убил?
— А как же! Это ж моя профессия!
— Нет, серьезно, где достал воду?
— Не скажу.
— Тогда я пить не буду! — твердо сказала Катя и отвернулась от соблазна.
— А если скажу, будешь пить?
— Если не отобрал у женщины или ребенка, — буду.
— Из камня высосал, — покаянно прохрипел Майор.
— Как это из камня?
— Каменюки тут мокрые. Вот я и придумал высасывать из них капли.
Катя недоверчиво взглянула на Леську, как бы ища подтверждения.
— Чего ты сомневаешься, чудило? Видишь, какие у меня зайды?
Он подошел поближе к свету и показал ей исцарапанные углы губ.
— Майор, ты гений! — воскликнул Леська и побежал сосать камень.
А Катя приняла из лапищи мужа граненый стаканчик и стала пить медленно и с остановкой, точно совершая какой-то чуть ли не религиозный обряд.
Вскоре все население каменоломен принялось впитывать ракушечник. Не всем по удавалось, потому что не всякий камень обладал необходимой капиллярностью. Нужно уметь выбирать. Голомб и Елисей постигли это искусство в совершенстве. Они сначала обнюхивали камень и, если он уж очень попахивал сыростью, принимались его лобзать.
— Ох, и наживем же мы себе тут каменную болезнь!— сказал Голомб.
— Ничего, — бодро отозвалась Катя. — Только бы пришла советская власть. Поедем лечиться в Кисловодск или куда еще едут с этим делом?
— В Ессентуки, кажется, — вздохнув, промолвил Леська.
Ему особенно повезло: он и сам напился, и Кате понес полную чашку. «Человек не пропадет!» — вспоминал он свой любимый афоризм.
Вдруг навстречу шагнул какой-то бородач.
— Слушай, парень, — заговорил он, задыхаясь. — Продай мне эту чашечку.
— Рад бы, да не могу: это для девушки.
— Продай! А я тебе за это — вот.
Он вынул золотые часы с тремя крышками и тяжелой цепью, часы, присущие купцам второй гильдии, как шуба на черных хорях.