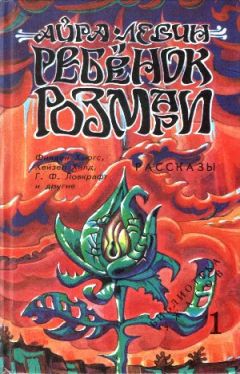Юрий Хазанов - Лубянка, 23
Окончательная же причина обосновалась в моих брюках. Только, пожалуйста, не ловите меня на слове, я употребляю его вполне сознательно — и не в первый раз. Немного раньше я упоминал, что тем летом с удовольствием надел на себя светло-синие вельветовые — Римма достала их где-то по случаю, и они были легкие, мягкие и с молнией. В них я и явился на дежурство, был замечен Никтополионовной и получил от нее нагоняй за неприличный, непотребный, неподобающий для советского учителя вид. Брюки я, однако, не снял — ни тогда, ни в последующие дни, но еще раз поклялся себе оставить педагогическую стезю.
А фестиваль шел своим чередом и был для всех нас абсолютно непривычным зрелищем: столько иностранцев сразу, и все стремятся о чем-то с тобой поговорить, совершенно не учитывая, что именно это многие годы нам категорически запрещалось. А они, бессовестные, лезут и лезут со своими разговорами и с «презентами» (мы и слова такого раньше не знали), и пристают, и напрашиваются, страшно сказать, в гости, хотя их ловко пытаются ограничить пребыванием в залах и на стадионах. Я уж не говорю о том, что все молодые, и не очень молодые, отвлекаясь от провокаций и шпионажа, любят что?.. Вот именно… А где? Да где угодно — хоть на скамейке, хоть на траве, хоть под скульптурой рабочего и колхозницы… И что тут поделать? А ведь, хорошо известно, подобные действия размягчают, и люди легче поддаются вражеской вербовке.
Конечно, и мы не лыком шиты и не пальцем, извините, это самое — и специальные комсомольские отряды препятствуют этому содому и этой гоморре, задерживают наиболее активных (из своих, разумеется, не из гостей), тащат их в милицию; девиц — стригут наголо, парней… нет, не кастрируют, но по мордам дают крепко и по почкам (хотя при чем тут почки?). А еще презенты, то есть сувениры, отбирают — потому как известно: все эти ручки, спички, зажигалки, платочки пропитаны специальной отравой. Она действует не сразу, но разлагает будь здоров — и морально, и физически.
Словом, всемирный фестиваль дружбы это вам не свинячья петрушка, не пустяковина какая-нибудь, а сложнейшее политическое действо, смертельная борьба идеологий. Видно, неспроста я никогда не любил всякие массовые мероприятия — будь то пионерские сборы, митинги, пребывание в армии, на войне… Правда, грешен: ходил в детстве на демонстрации, орал вместе со всеми «ура», слушал, как взрослые с напором поют: «Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это…» (не вполне отчетливо представляя, за что они ее так любят); покупал сладких петушков на палочке, надувные шарики «уйди-уйди», а потом усталый, но довольный возвращался домой, брал с полки Дюма, Буссенара, Кервуда, или из-под шкафа спрятанные там записки венеролога «За закрытой дверью», и с облегчением садился на зеленый плюшевый диван, чтобы в одиночестве — пока не войдет бабушка или брат — насладиться чтением.
Парочку раз во время нынешнего фестиваля я, все же, вышел на улицу: поговорил с каким-то юным венесуэльцем по фамилии не то Гусман, не то Гутман на присущем нам обоим английском, поглядел на них на всех, болезненно завидуя их естественности и раскованности, и поспешил домой — но уже не к Дюма и даже не к венерологу с его «записками», а к рюмке. Кстати, о венерологе. Тут наши пропагандисты были, увы, отчасти правы: нас заражали! Только не с помощью сувениров, а старым дедовским способом. (Каким в начале прошлого века заразило моего непутевого деда некое «заблудшее, но милое созданье».) Впрочем, и наши наверняка в накладе не остались: отвечали тем же…
Сразу же после приезда из Плеса я узнал, что Алик приобрел щенка у Георгия Георгиевича, дал ему имя, как и хотел, — Каплин и не нарадуется на него — такого всего черно-пегого, с белой звездочкой на лбу, с темным пятном на спине, напоминающим по форме африканский материк, с длиннющими шелковыми ушами и коротким хвостиком с задорным завитком. И глаза у него карие, а нос черный.
— Лапы в комке? — сурово спросил я.
— А в чем же еще? — ответил Алик с некоторой обидой и продолжил скороговоркой, как хорошо затверженный урок: — Мыть нужно два раза в месяц, чесать ежедневно. Сырое мясо как можно чаще. Упражнения начинать с шести месяцев, сейчас ему нет четырех. В пищу добавлять серу, минеральные соли, поливитамины, рыбий жир… Специальные книжки я уже достал… И он такой маленький, а уже многое понимает: сидеть, лежать, гулять… Сейчас изучаем «рядом»… На очереди — «служи».
— Не надо ему служить, — попросил я. — Достаточно того, что мы служим…
Разговор происходил в крошечной комнате Алика на Никитском бульваре и был прерван не по нашей с ним вине: на полу мы увидели небольшую лужу, рядом — еще одну, и Алик бросился к соседке за тряпкой, потому что свои все были постираны и еще не высохли. Но мужественная улыбка продолжала держаться на его губах.
Улыбка стала таять и больше уже не появлялась, когда Алик снова пошел в свою поликлинику, где вынужден был работать в полторы смены — чтобы хватало денег на поливитамины и серу для Каплина и на кое-что для себя. Частной практикой он, можно сказать, не занимался: не хотел связываться с властями — только если уж очень просили друзья, или друзья друзей, мог поставить пломбу или выдернуть зуб (причем почти без боли). Для друзей — на случай, если заходили без договоренности, он, по старой памяти, оставлял ключ от комнаты в пальто на вешалке в коридоре. Теперь же на дверях комнаты регулярно появлялась записка, на которой была нарисована условная собачья голова, а под ней вопрос: «Ты не забыл погулять с собакой?»
Однако многие, все равно, забывали, иные же стали даже реже заходить. Или зубы у них поздоровели?
Шутки шутками, но с собакой Алику было нелегко. И ей с ним тоже: дома он отсутствовал по полсуток, и с бедным Каплином никто не гулял, не беседовал, никто его не кормил, не добавлял в пищу рыбий жир, а в душу — уверенность в завтрашнем дне. Мать Алика, она жила по другую сторону перегородки, в большей половине комнаты, была вообще слабого здоровья, а с возрастом и после смерти мужа у нее появилась странная неприязнь к сыну, которую я бы назвал патологической, если бы взял на себя смелость ставить диагнозы. С Аликом она почти не общалась…
Я забыл упомянуть, что свое решение об уходе из школы принимал не один. Я вообще никогда не был чересчур смелым и самостоятельным в своих поступках и не считал зазорным советоваться. Главным образом с друзьями. Таким остаюсь и сейчас. Хотя если припомнить какие-то наиболее сложные перипетии в жизни — бросок из десятого класса московской школы в далекий Тобольск; поступление в ленинградскую военную академию; женитьбу без любви и разрыв без особой на то нужды… Что еще? Обращение в полицию города Глазго с просьбой о политическом убежище (которое чуть было не состоялось в 1978 году)… Все перечисленные действия я совершал (или не совершал) только по собственному разумению.
Но сейчас уйти из школы мне помогла Римма, которая вроде бы верила, или делала вид, что верит, в мое литературное будущее (если я не слишком громко выражаюсь). И, опять же, не ставлю диагноза: то ли она просто понимала, чего мне тогда больше хотелось, то ли в самом деле заприметила во мне что-то, чего я сам не уловил. В общем, когда дня за три до начала занятий я пришел в школу (не в вельветовых брюках), в кармане у меня лежало лаконичное заявление об уходе, и я положил его на стол к директору. Слез не было, справедливого негодования, что такие вещи надо сообщать загодя, тоже. Наполеоновна вполне мирным тоном сказала, что, конечно, если я чувствую такую тягу к литературе, она не может возражать — стране нужны грамотные и хорошие писатели, которые будут работать на благо нашего общества. Скромно потупясь и так и не разгадав, где в ее словах искренность, а где привычка, ставшая искренностью, я ответил, что постараюсь оправдать ее лучшие надежды, после чего согласился поработать еще месяц, пока не подыщут мне достойную замену.
На обратном пути к троллейбусной остановке я вспомнил, между прочим, что один серьезный и мудрый поэт заметил: «Мысль изреченная есть ложь» — и, пожалуй, был прав. Однако, добавил бы я, не тот все-таки лжец, кто изрекает ее, добросовестно заблуждаясь при этом, а тот, кто знает, что его мысль «есть ложь». Но знает ли наша Никтополионовна? И миллионы нас, других?..
Уже в троллейбусе Љ 31 я испытал два совершенно разнородных чувства: первое — облегчения от того, что не придется больше вставать ни свет ни заря, мчаться в школу и делать вид, в первую очередь перед самим собой, будто могу там кого-то воспитать или чему-то путному научить; а второе чувство — тяжести, что придется теперь с еще большей силой ввинчиваться в малопривлекательный издательский мир и целиком от него зависеть. Впрочем, когда там же, в троллейбусе, я занялся элементарной арифметикой, то быстро понял — возместить финансовый провал, связанный с уходом из школы, не так уж трудно: ведь даже если получать за перевод стихотворения минимальный гонорар в размере 80 копеек за строчку, то мое среднее учительское жалованье (420 рублей) приравнивается к 525 строкам, которые можно сотворить, без особой спешки, за пять-шесть дней. (Сколько дней, или недель, может пойти на то, чтобы получить на эти строки заказ, а потом дождаться выплаты гонорара, разговор особый.)