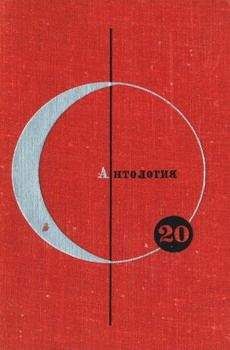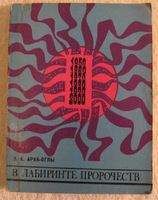Эдуард Зорин - Большое Гнездо
— Ну я, — сказал Веселица, отряхивая с дырявой сермяги снег.
Четка прыгал вокруг, размахивал руками, наскакивал, легонько ударяя его то в бок, то в плечо.
— Он это, он, Кузьма!
— Ладно, — сказал Кузьма раздумчиво. — За то, что помог ты княжичу, честь тебе и хвала, а за то, что коня увел…
— Без надзору была кобылка, — занудил Веселица. — Ты уж на меня не гневайся…
— Всякому делу свой счет, — остановил его Кузьма. — И ответишь ты не мне, а самому князю. Садись-ко да перед нами правь, кажи дорогу ко Владимиру…
— Да как сяду-то я, коли подпруга лопнула? — сказал Веселица, еще надеясь, что Кузьма передумает. — Заутра сам приду, не сумлевайся.
— А нам опять плутать по лесу? Э, нет, — погрозил пальцем Кузьма. — Ты мужичок хитрой, а мы и того похитрей. Отдай ему своего коня, Четка, а сам ступай в возок.
Четка сунул в руки Веселице поводья, шепнул ему: «Не робей» — и сел в возок.
— Трогай! — шумнул Кузьма.
Веселица огляделся вокруг, надеясь увидеть Мисаила. Но старец все не шел, и на поляну уже опускалась ночь…
Когда они подъехали ко Владимиру, небо было усыпано звездами, и среди них яснолико красовалась полная луна.
Как раз в это время и должен был Веселица трижды, по-условному, постучать в ворота монастыря.
Пелагея только что покинула Феодорину келью, а игуменья в последний раз наставляла бабу, сторожившую у ворот:
— Ты шибко-то не суетись, откинь щеколду — да и в сторонку. Остальное дело не твое… Поняла ли?
— Как не понять, матушка, все поняла.
В подклете при лучине сидели трое нанятых мужиков с добрыми, простодушными лицами и тянули жидкое монастырское вино. Первую корчагу они прикончили и принялись за вторую. Когда вошла игуменья, встали и поклонились ей поясно.
— Глядите мне, третьей корчаги не поднесу, — проворчала Досифея, недовольная мужиками.
— Наше дело хрестьянское, — сказали мужики.
— Чрева у вас бездонные…
— Впрок запасаемся, матушка.
— Кликну, так чтоб сразу ко всходу…
— Колья-то у нас припасены, — плутовато заулыбались мужики.
— Бог в помощь, — сказала игуменья и вышла. Мужики, перекрестившись, снова сели к столу.
Долго придется ждать мужикам Веселицу, долго будет встревоженная Досифея выглядывать в окошко — так и утро наступит, а никто не придет к монастырю, не постучится условленным стуком, трижды, в глухие ворота…
Не в монастырь, а за Лыбедь повела за собою судьба Веселицу. На счастье повела или на горе — откуда ему знать? Но не свернуть с тореной дорожки, не ожечь плеточкой коня: зорко присматривает за Веселицой Ратьшич, едет, чуть поотстав, напевает что-то в обметанную белым инеем бороду.
Тихо на улицах Владимира, не видно ни души, попрятались люди в свои избы. Только в положенных местах прохаживаются ночные сторожа, постукивают нога о ногу, прячут озябшие руки в просторные рукава вывернутых мехом наружу шуб…
Быть бы худу, да бог не велел. Встречали Веселицу в княжом терему, как желанного гостя. В прожженной сермяге сажали на крытые рытым бархатом лавки, сама княгиня к нему выходила, держа за руки княжичей — Юрия и Константина.
Пьян был Веселица, но не от медов, улыбался, как дурень на чужом пиру. А пир-то был в его честь.
— Князь идет, князь, — прошелестело в переходе.
Ратьшич сбоку стал, положив руку на меч, Веселица с Четкой пали на колени.
А когда вошел Всеволод, запершило у Веселицы в горле, сперло ему дыхание.
Всеволод приблизился, руку возложил ему на плечо, велел встать. И все придвинулись, чтобы лучше слышать князя.
— Спас ты мое любимое дитя, Веселица, — сказал он. — За князем доброе, дело не пропадет: проси, что хошь…
— Ничего мне не нужно, княже, — отвечал ошалевший от счастья Веселица. — Дозволь только тебя зреть.
Все засмеялись. А Кузьма сказал:
— Смелые люди — опора твоя, княже. Возьми к себе Веселицу.
— Отчего же не взять? — подумав, согласился Всеволод.
На том и пили чашу крепкого вина.
Утром Варвара сожгла в печи Веселицыну ветхую сермягу. Дал ему Ратьшич одежду справную, острый меч и коня. А еще насыпал в шапку золота — князев душевный подарок:
— Гуляй, Веселица!
Глава двенадцатая
Не в добрый час прибыл в Новгород Авраам. Еще в Торжке почуял он неладное: на торгу скопились возы и телеги, на купецком подворье стояли шум и гвалт. А еще бросилось Аврааму в глаза, что стражи у городских ворот поприбавилось, а на валах трудились мужики, подновляя стрельни и городницы.
— Не приняли новгородцы князя Ярослава, изгнали его из своей земли, — говорили знающие люди. — Владыко, слышь-ко, заупрямился.
— Быть беде, — подтверждали тревожные слухи другие. — Прислал Ярослав в Торжок своих воевод, самого ждем с дружиною со дня на день. Не отступится он от Новгорода.
— Всеволод за его спиной. Нездинича-то с дружками держит во Владимире неспроста. Куды Мартирию податься?
— Будто бы слал он в Чернигов гонцов, сына хощет просить у тамошнего князя…
— Вона что замыслил…
— Усобица княжеская — купечеству разорение… А на чем Новгород держится? Опять же на наших горбах.
— На дорогах грабеж. Вышли из лесов добытчики…
— Худо. Ох, как худо-то…
Про добытчиков верно на купецком подворье сказывали. На самом подъезде к Торжку едва унес от них Авраам ноги.
Ночевали в небольшом селе. Привыкнув к тишине и порядку во владимирских пределах, о беде и не помышляли, спали, не выставив сторожей. Стояли на дворе последние зимние холода, в избе было тепло и тесно.
Среди ночи вошли трое, остановились на пороге, дверь за собой не прикрыв. Из темных сеней доносилось похрустывание смороженных половиц. Там тоже были люди — по-хозяйски, шумно передвигали лари и кадушки.
Один из вошедших сказал:
— Во сне порубим али как?
— Все тебе, Вобей, кровушки мало, — отвечал другой. — Пущай сами перед нами казну вытряхивают.
— Эй, купцы!
Весь разговор их, от начала и до конца, слышал Авраам. Лежал он на дальней лавке, в углу, все не мог уснуть — давил надоедливых клопов, чесался, с мукой таращился в темноту: хоть бы утро поскорей. Мужиков он увидел сразу, но не сразу понял, что это чужие. Даже шумнуть хотел, чтобы прикрыли дверь.
Купцы после окрика зашевелились, заподымались с лежанок, ворча и протирая глаза. Иные переворачивались на бок, снова укладывались спать. Мужики пинками будили лежавших.
Кто-то деловито высекал огонь у печи, раздувал трут — высвечивалось бородатое, тронутое оспинками лицо. Со двора вошли еще двое.
Купцы стояли в исподнем, ежились на холоде, совали под мышки озябшие руки.
Все было благочинно и тихо. Обирая купцов, мужики пошучивали:
— Собирались кулики, на болоте сидючи, — они суздальцы и володимирцы…
— Грех да беда на кого не живет? Ничо, купцы, ишшо набьете свою мошну, а мы людишки бедные, у нас ножички вострые…
Все, что набирали, сваливали в мешок. Распахивали рубахи, срывали обереги и кресты. Шубы тут же на себя напяливали, примеряли сапоги и чоботы. На Авраамов кожушок никто не позарился. Образок у него нательный — из черного железа. Золотишко в суконную шапочку зашито.
Вытолкали его из избы:
— Ковыляй с миром, старче. По всему видать, в чужую стаю залетел.
Выскочил Авраам на двор, а там от факелов светло, как днем. Мужики подушки трясут — с ног до головы в перьях. Суетятся между возов, друг у друга тянут из рук добычу. Направился Авраам к тыну, а за спиною — окрик:
— Погоди-ко, мил человек. Дай-ко шапочку твою пощупать.
Подошел кривоногий малый, дернул шапочку к себе — Авраам к себе потянул.
— Глянь сюды, — сказал мужик и вытащил из-за спины топор.
Посунулся Авраам вперед да как хрястнет мужика промеж глаз. Никому невдогад было, что сила в его руках немалая, а с виду старец, — что зубилом, что кулаком, одинаково владел Авраам.
По опыту знал зиждитель — долго еще будут отхаживать мужика, а он за плетень мотнулся — и в чащу.
С утра-то, захотели бы тати, легко бы сыскали его по следу. Но кому приспеет охота тащиться в темень по сугробам? А вот купцам зато худо пришлось: озверев, иных из них посекли бродяги. Но в том вины Авраамовой нет…
Из Торжка до Новгорода ехал Авраам с другим попутным обозом. Едва пробились купцы на санный путь — долго не выпускали их за городские ворота. Пришлось раскошеливаться, не одного воротника задабривать, но и Ярославова сотника.
Торговался он из-за каждой ногаты. Купцы — народ прижимистый. Говорили, пытаясь его усовестить:
— Не стыдно тебе хоромы на горе нашем ставить?
— Как же, на вашем горе хоромы поставишь, — был сотник человеком знающим, зря денег не брал. — А не нравится, так сидите в Торжке.