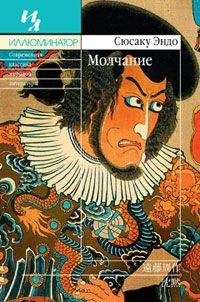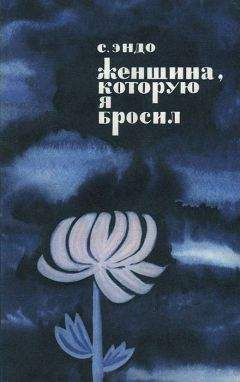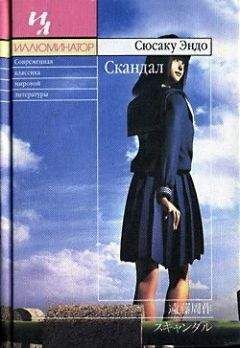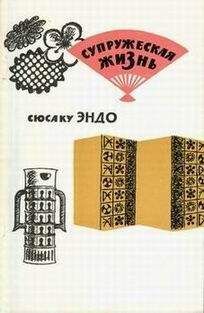Николай Задорнов - Хэда
– Лисовина выпустите, как решено, – сказал Кавадзи в храме ожидавшему его Деничиро.
«Я уступаю ходу истории, закономерным событиям, чтобы моя страна быстрей преображалась. Но чтобы при этом мое согласие выглядело в глазах народа как временная уступка насилию и нахальству иностранцев... Чтобы подтверждалась незыблемость и правота высшей власти... Незыблемая правота всего, подчиняться чему обязывали нас веками: правота обмана, без которого нельзя управлять народом для его же счастья...»
– Сегодня выслушал, как Путятин готовит экипаж к плаванию. Сказал: вам, адмирал, трудно будет уйти...
Уэкава почтительно соглашался.
...Деничиро ушел. Очень искусный сыщик, подданный Кавадзи, донес, что видел сам, скрытно наблюдая, как бонза храма, проходя по комнате, видел сегодня дневник Кавадзи.
Подданные очень верны Саэмону. Они следят, чтобы волос не упал с головы их господина. Бонза захотел узнать, что пишет Кавадзи! Что же, ведь в своих записях Саэмон всегда хвалит правительство и дурно отзывается об иностранцах. Иначе нельзя! И не только потому, что красоты леса и садов таят множество шпионов. Такие же шпионы в душе Кавадзи.
Утром Саэмон после купания и упражнений в саду решил быть с бумагой пооткровенней. И оставил дневник на столе. Шпион-священник, распоряжаясь уборкой храма, посмотрит. Вот какие секреты ему посвящены! Он смутится. Но хотя дневник открыт на свежей записи – бумаги высшего вельможи неприкосновенны и не могут быть прочитаны!
Выезжая в каго на переговоры, Кавадзи решил, что Накамура прав, все должно кончиться тем, что Саэмону дадут в руки привычный меч. А пока его голова и его руки еще заняты...
Много принес ему только один вчерашний день свободы. Голова ожила. Он почувствовал себя верным слугой правительства... Он много сделал для правительства в этот день, во время путешествия внутри путешествия!
Путятин сказал Кавадзи, что все чертежи шхуны «Хэда» будут переданы строителям японских шхун безвозмездно, и пригласил его в чертежную.
Оба посла пешком отправились в дом Ота. Их встретил унтер-офицер Григорьев.
Адмирал велел показать послу планы и чертежи шхуны. На столике, заменяя скатерть, лежала часть какого-то плана.
– А что тут? – спросил Кавадзи.
Путятин наклонился.
Весь чертеж исписан столбцами слов:
«Фунэ – корабль».
И дальше целый словарь. Знаки японской азбуки и произношение по-русски: «Мо», «Хи», «Э», «дза».
Путятин пересмотрел весь список.
«Вакару – понимаю», «Онна кау – приведи дефку – денег дам».
«Очень глупо», – подумал адмирал.
– Эти чертежи мы передадим японскому правительству... Да, приведи их в порядок, Григорьев. Проверь, все ли целы, да перечерти те, которые нельзя очистить. Ты понял?
– Так точно, понял, Евфимий Васильевич!
– Это юнкера написали?
– Не могу знать...
– Эти бумаги, Саэмон-сама, после спуска шхуны и нашего ухода останутся для вас.
«Какая безграмотность! «Дефку»!» – подумал Путятин.
Глава 19
ПРОЩАЙТЕ, ТОВАРИЩИ, С БОГОМ, УРА!
С вечера страстной субботы служителей японских храмов занимало предстоящее пасхальное торжество, величайшее из христианских священных таинств, как объяснял им отец Василий Махов.
Тайны враждебной религии опасны, поэтому необходимо их познать. Хотя есть и такие бонзы, которые в эту ночь запрутся и будут молиться и проклинать западных людей и западную веру. Но, конечно, сильных проклятий не произнесут! Но покажут, что не хотят ничего ни знать, ни видеть.
Чиновники так старались всех жителей Хэда отвлечь от предстоящего христианского празднования в лагере и так разнесли весть о нем по всей деревне, даже туда, где люди ни о чем подобном до сих пор даже и не слышали, что всех заинтересовало. Матросы – приятели хэдеких мастеровых – ничего им не говорили про богослужение и торжество, приказано было наистрожайше не тревожить японцев и с ними про веру не поминать. Это не ваше дело, объясняли офицеры, надо будет, и скажут. Попы, а не вы...
Матросам все это было совершенно безразлично, и хотя многие по-прежнему называли японцев нехристями, но на работе все свыклись с ними и сдружились, и обижать их обычаи и веру никто не собирался, ни у кого в уме ничего подобного не было. Японец, он – японец, и у него все японское, свое, все наоборот нашему, этим он даже занятен и мил, добрый и славный, хотя палец в рот ему не клади.
Вся деревня потушила огни, но почти никто из взрослых не спал, все прислушивались к пению, доносившемуся из лагеря. А пение было красивым и торжественным. Его можно страшиться, как сладчайшего соблазна.
Часто в лагере и прежде пели, то грустно, то весело. Русские везде и всегда пели, у них множество песен ко всякому случаю и ко всякой работе. Все их любили слушать. Но так еще никогда не пели. Иногда густо, глубоко, так проникновенно, что казалось, в их согласном пении рокочет море.
– Они хорошо поют, – сказал сыну старик Ичиро, входя в свой дом.
Старик долго сидел на крыше, пока с моря не потянуло и он не озяб. Эбису пели внутри солдатского храма, а многие во дворе, поэтому хорошо слышно. И тихая ночь.
Вот почему, оказывается, правительство жгло христиан живьем! Вот это служба! Они хорошо поют и для себя и для бога.
Ичиро вообще удивлялся, зачем их религию преследовать? У всех своя вера! Все по-своему чтят бога...
Старик улегся на циновку и, укрываясь ватным халатом, еще долго бормотал. Если бы не озяб, еще сидел на крыше и слушал их пение. Вдруг он откинул халат и поднял голову:
– Танака-сан говорит: надо всех пугать, чтобы не взяли примера. Поэтому ты молчи. Будут большие строгости после отъезда русских. А как ты думаешь, они все уйдут на американском корабле?
Таракити пробормотал что-то, он почти спал. Но все слышал и не хотел отвечать. Отец толкует про пустяки. Конечно, пение доносится всюду. Его слышат и старосты, и полицейские, и бонзы, спрятавшиеся в тени огромных деревьев, и американцы на своей шхуне.
Таракити молод, до смерти ему далеко. Он поэтому и в буддийские и в шинтоистские храмы ходит редко, хладнокровен к вере, хотя богов почитает, и молится, и побаивается. Пословица говорит: как жениться, так буддист, как умирать, так шинтоист. А некоторые говорят наоборот. Таракити еще не собирался ни умирать, ни жениться, ни переходить в другую веру. Но он чувствует глубокую привязанность к своим новым друзьям, а их вера не имеет для него значения. Но под их далекое пение не спится. Ведь они готовятся к уходу. Скоро их не будет! Александр сказал, что надо учиться дальше, очень много. В душе Таракити гром и молния, сам же он лежит тихо на соломенной татами под бедной накидкой, под которой спал еще в детстве. Теперь ноги торчат из-под нее; он вырос... Но как дальше, что же будет? Мгновениями становится страшно. Неужели так пройдет вся жизнь? Таракити и сам понял, что знания ему даются. И не только знания. И самая трудная работа ему дается. Он приучен отцом к терпению и старательности, он не требует себе за это ничего. В его аккуратной работе выражена его гордость. Это не для того хозяина, кому я делаю, а для себя. Мне платят, и все. Но я красотой изделия, тщательностью работы заслуживаю всегда, как и отец, признания и благодарности того, кто покупает мою работу, кто завладевает ею. Отдавая изделие хозяину, я ему без слов объясняю: смотри, какой я мастер. Мое мастерство я тебе не отдаю, оно принадлежит только мне. И меня благодарят и заискивают. Так всегда благодарили отца. Так мы, бедные плотники, гордимся из поколения в поколение!
Но вот теперь начинается что-то другое. Теперь оказывается, что, пока мы гордились совершенством своего мастерства, западные люди нас перегнали, их мир ушел далеко вперед. Наше умение и старательность и наша гордость прилагаются нами к устаревшему делу. Надо, сохраняя умение, применять его к новому. Где учиться? Как? Нельзя сказать: не уходите! Возьмите меня с собой! Вот какой пожар зажегся в душе Таракити.
«А пение... что же... отцу нравится!»
Но что-то страшное угадывается, глухое предчувствие одиночества и какой-то трагедии, может близких кровавых ужасов, угасания молодых надежд. В эти дни всем страшно и все боятся одинаково.
Таракити уснул и долго стонал. Очнувшись, вспомнил, что ведь после спуска русского судна остаются еще два, будет еще работа, без него не обойдутся. На второй из шхун с трудом установлены первые шпангоуты, а на третьей заложен киль.
Ночь шла, а за частоколом в лагерной церкви пение не смолкало. От ночной тишины или от избытка чувства любви к всевышним силам пение эбису становилось громче.
Полицейские и рыбаки, присланные им в помощь, зорко следят за всем происходящим с крыш храмов и домиков, а также с окрестных гор.
На заставах, в хребтах, куда подымаются торжественные волны звуков, солдаты, конечно, тоже слышат. Все держатся при этом за оружие.
Вокруг частокола, как обычно, стоят ночные караульные с саблями.