Юрий Слезкин - Брусилов
«Я перешла в старшую группу», — отмечает в памяти своей Люба и спешит дальше. Как странно, отчетливей всего она помнит, что ей тогда отчаянно хотелось есть. Она с утра не ела. Ощущение голода осталось до сих пор.
Потом… потом она прибежала домой. Обед еще не поспел, ждали папу. Она схватила кусок хлеба, стала глотать куски — один себе в рот, другой Вильке, — это она помнит хорошо. Потом намазала ломоть хлеба маслом, села на стул и начала медленно прожевывать… «С наслаждением, — говорит себе Люба, точно прислушиваясь к этому слову, — я очень была голодна. Я ела с наслаждением…» Очевидно, проглатывая кусок за куском, она все полнее ощущала свой триумф, видела себя в роли Эльки, пережила сызнова недовольство собою и удивление свое перед восхищением подруг, особенно Танюши Веневской, и смущение и счастье от похвал Ходотова, и сознание, что она отлично сдала экзамен… Но теперь твердо угнездилось в памяти только ощущение голода и наслаждение, с каким она его утоляла… Кажется, мама чего-то обиделась и выговаривала ей, что перед самым обедом не едят, что на вопросы надо отвечать толково и вежливо, а не мычаньем, но наслажденье было прерван о звонком.
— Ах, Боже мой…
Если бы она знала, что ждет ее, может быть, она не кинулась бы так стремительно на звонок швейцара из парадной… Она не сбежала бы одним духом по всем ступеням с четвертого этажа, а задержалась хотя бы на одной ступеньке… Она не схватила бы жадно телефонной трубки, не крикнула бы звонко: «Я слушаю! Кто говорит?..» Не обрадовалась бы привычно на родной голосок Танюши Веневской. А может быть, с нею все так бы и сталось, но по-иному…
В телефонной трубке звенел, бился, обрывался Танюшин голос. Она кричала, перебивала себя вопросами: «Ты слушаешь? Ты слушаешь?»
Люба слышала. Люба и сейчас помнит все от слова до слова. Танюша звала ехать с нею в госпиталь Лейхтенбергского. «Там лежит Чегорин. Представь себе, уже давно. А мы не знали! Бессовестная тетя Тоня сказала мне об этом только сейчас!» Ехать надо обязательно, это их долг. Ведь они обе были влюблены в Чегорина, обе провожали его на войну… Танюша без Любы не поедет…
И они поехали…
— Ах, Боже мой!
Они купили цветов Чегорину, они смеялись! Какой только вздор не приходил в голову, пока они не доехали до дворца Лейхтенбергского…
— Ах, Боже мой…
Может быть, надо было повернуть назад, когда они в смущении стояли во дворе дворца, не зная, в какую дверь идти. Может быть, надо было не смеяться, поднимаясь то по одной, то по другой лестнице…
Может быть, не надо было вспоминать бунинские строки, которые у всех у них в театральной школе были на устах:
Дурману девочка наелась,
Тошнит, головка разболелась…
Пылают щечки, клонит в сон,
Но сердцу сладко, сладко, сладко:
Все непонятно, все загадка.
Какой-то звон со всех сторон…[48]
Они обе, наперебой, повторяли эти строки, глядя друг на друга задорно и испуганно и следуя за дежурной сестрой по широкому светлому коридору…
Но сердцу сладко, сладко, сладко:
Все непонятно, все загадка…
И вот открылась тяжелая, белая с золотым узором дверь…
VIII
Люба подымается с кровати, она ощупью делает несколько шагов, сама не зная зачем. Ее захлестнула жизнь, ей нужно двигаться. Она идет от кровати к двери, от двери к кровати сестры, потом к рабочему столику у окна, потом опять к своей кровати… Так, по кругу, медленно, она двигается, дотрагивается до каких-то вещей, натыкаясь на них в темноте. Ее ничто не гонит вперед. Она движется, как движется золотая стрелка ее маленьких часов у пояса. Если стрелку остановишь, золотые часики будут сломаны.
— Ах, Боже мой…
Губы шепчут эти три коротких словечка все громче. Они звучат совсем не так, как звучали обычно.
Когда иголка падала на пол и ее никак нельзя было найти — «ах, Боже мой!» бормотали губы с досадой. Когда неудачно шла роль — «ах, Боже мой!» выражало испуг или обиду на себя. Когда поссоришься с подругой — «ах, Боже мой!» говорит о раскаянии…
Что хочет выразить Люба теперь этими тремя словами? Она не знает, она не слышит этих слов, но они доходят до слуха спящей сестры. Маша что-то бормочет и шевелится.
Их слышит Вилька. Он приподнял одно ухо и смотрит на хозяйку. Он подымается на четыре ноги, встряхивается и подходит к Любе. Люба не замечает его, не дразнит, не тянет за ухо. Он начинает ходить следом за нею, встряхиваясь и зевая. Очевидно, так надо.
Они идут по кругу, но комната кажется все меньше, слишком много мешающих предметов на пути, а шаг становится все легче и стремительней. Маша скрипит пружинами кровати, бормочет, приподымается, сейчас что-нибудь спросит. Нет, только не это…
Люба открывает дверь в столовую, огибает обеденный стол и проходит в гостиную. Все три окна гостиной освещены летучим лунным сиянием. Три туманных белых пятна лежат на паркете.
Люба, не замедляя шага, продолжает свое движение по кругу.
— Ах, Боже мой…
Эти три слова поют в ней неустанно и все громче. Как ветер в ушах, когда бежишь вдоль берега моря и совсем не слышишь своих шагов и кажется, что летишь…
Глаза смотрят перед собою не мигая, напряженно, руки приподняты к груди, ладонями внутрь, точно она несет что-то тяжелое и хрупкое, что-то наполненное до краев… Нельзя замедлить полет или остановиться, чтобы не расплескать… Но тут у нее слабеют ноги, горячая волна заливает тело, и она садится на первый подвернувшийся стул.
— Он сказал: «Боже, как я ждал вас!» — говорит она, тяжело дыша. Губы ее обожжены. Каждое слово — как раскаленный уголь. Она вслушивается, пытается понять, дрожит мелкой внутренней дрожью.
Впервые слышит эти слова так ясно, так до предела понимает всю их правдивость и глубину.
Тогда, когда он произносил их, она испугалась. Она видела только его глаза. Ошеломила необычность слов, а не внутренний их смысл.
— «Боже, как я ждал вас», — повторяет она. Она знает, что он ждал ее. Знает всем своим существом.
И она подымается со стула, ноги едва держат ее, но она опять идет по широкому кругу, освещенному луной.
— Ах, Боже мой, — поет в ней, и в этих трех словах теперь ей слышится: «Не удержать… не донесу… расплещется»… и тотчас же: «Должна удержать! должна донести!»
И снова ноги слабеют, она садится на диван.
— Потом он сказал: «Врачи говорят, что я фантастически поправляюсь. Это потому, что…»
Она рвется встать, не в силах, память мешает ей.
— Он сказал: «Прошлой осенью, когда мы с вами встретились, Петроград был пестрым… не знаю почему… Теперь он — как воздух». Я спросила: «Как воздух?» Он ответил: «Да». И я сейчас же увидела — очень светлое, очень легкое и тоже сказала: «Да»… Потом я ушла.
Люба опять вскакивает, опять в движении. Так она делает круг за кругом, все чаще присаживаясь то в одном углу, то в другом, то на подоконнике, спиною к лунному свету.
За окном в безмерной глубине медленно течет, клубится река, стиснутая двумя берегами каменных домов. Теперь туман серебряный, легкий, но Люба сидит спиною к окну, она видит день, солнце.
Вилька садится перед нею, весь в лунном свете, и начинает тихохонько поскуливать. Он отказывается понимать свою хозяйку.
На подоконнике Люба сидит долго. Она заставляет себя вспомнить все по порядку. Она прибежала домой пешком. Она потеряла где-то Танюшу… Она бежала по улицам, ничего перед собою не видя и ни о чем не думая. «Думать было не о чем, — шепчет она решительно, — ничего не произошло». Она пробыла во дворце несколько минут…
А дома остывший обед, сердитая мама, есть абсолютно не хочется. «Чегорин совсем не изменился. Царапинка, а не рана!»
— Ты знаешь эти стихи? — говорит она Маше.
Дурману девочка наелась,
Тошнит, головка разболелась.
— Глупые стихи, — отвечает Маша.
И вот теперь Люба смотрит в глубину освещенной луною гостиной. А видит солнце и синюю чашу, полную до краев. Она стремительно встает, она говорит громко, истово, как молитву:
— Ах, Боже мой…
Но сама не сознает, что таится в этих словах, как глубоко заглянула она сейчас в свое сердце.
IX
Страстная неделя решила все и бесповоротно. Третьего апреля, в Вербное воскресенье, Игорь перебрался из общей палаты в квартиру Гулевича. Гулевич устроил его в своей спальне с окнами на Фонтанку, а сам перебрался в кабинет. Внимание его к своему давнему однокашнику поистине было трогательно.
Занятый целыми днями бесконечным количеством хозяйственных и административных дел, он редко заглядывал домой, и Игорь мог располагать своим временем и квартирой как заблагорассудится. Прекрасная машина управляющего в те часы, когда последний занят был в управлении дворца, тоже предоставлялась в распоряжение Смолича. Ему разрешены уже были недолгие прогулки. С первого апреля дни на диво выдались солнечными и теплыми.


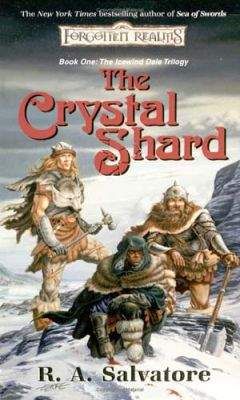
![Роберт Сальваторе - Магический кристалл [Хрустальный осколок]](/uploads/posts/books/64264/64264.jpg)
