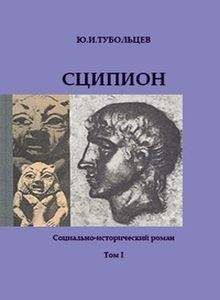Юрий Тубольцев - Сципион. Социально-исторический роман. Том 2
Недруги Сципиона, пытаясь уличить его в непоследовательности, напоминали, как два года назад он, будучи консулом, призывал усилить балканский корпус, чтобы воспрепятствовать вторжению Антиоха, тогда как теперь будто бы толкует противоположное.
«Именно, будто бы, — отвечал на это Сципион. — Два года назад ситуация была иной: во-первых, наше войско стояло в Элладе, и два в нем легиона или больше — никого не интересовало, а во-вторых, тогда мы владели ключевыми пунктами в стране и в случае боевых действий получили бы преимущество, теперь же стратегические позиции у нас с Антиохом равноценны, и, опередив сирийцев на какой-то месяц, мы ничего не выиграем, но много прогадаем».
Потенциал Сципионовой армии был очень велик, и ее фронт ныне выглядел весьма внушительно, оппозиция же на этот раз выступала неорганизованно, почивая на лаврах после недавней победы. Клан Квинкциев явно уступал Корнелиям и не мог долгое время выдерживать конкуренцию с ними. Катон всем надоел в предвыборную кампанию и сейчас от него отмахивались, как от назойливой осы, а Валерии или Фурии не горели желанием ратовать за Квинкция или Домиция и в вопросе об Азии были солидарны со Сципионом, надеясь на будущий год протолкнуть в консулы своего кандидата. Поэтому, когда новые магистраты вступили в должность и консулы заявили в сенате о намерении двинуть свои ретивые стопы за Адриатику, они встретили мощное сопротивление. Им предлагалось остаться в Италии, чтобы завершить войну с лигурами и галлами.
Луций Фламинин выступил с речью, обосновывая необходимость вторжения в Грецию, но не уговорил никого, кроме десятка сидевших в зале Квинкциев, зато убедил брата Тита в том, что без поддержки партии Сципиона они, Фламинины, мало чего стоят. Домиций тоже поведал звонкими патриотическими фразами о своем желании прославиться, но с еще меньшим успехом. В угаре честолюбия Агенобарб даже обратился к народу и попытался воздействовать на него трансцендентным фактором. Он заявил, будто бык на его ферме рано поутру человечьим голосом молвил: «Рим стерегись!» Друзья и подхалимы консула тут же истолковали это сногсшибательное событие как указание богов на угрозу с востока, забыв при этом, что в Риме истолкованием занимаются уполномоченные на то специалисты. Жрецы же только посмеялись над Домицием, ибо Великий понтифик был близким другом Сципиона, однако перед народом сделали строгие лица и назначили умилостивительные молебствия богам.
Потуги консулов вызвали лишь снисходительное сострадание к ним за невостребованное честолюбие и ничего более. Они оба получили назначение на север. Причем Домиция Сципион задержал в столице под предлогом создания резерва на случай активизации Антиоха, а на самом деле для того, чтобы он не помешал завершить войну с лигурами Квинту Минуцию Терму — давнему другу и соратнику Публия. Для самого же Минуция Сципион не только добился продления полномочий, но и подкрепления его войску.
11
Устроив должным образом дела в Риме, Сципион обратил взор на Азию. Он мог твердо рассчитывать на то, что через год кто-то из его ближайших друзей возглавит восточную кампанию, а значит, ему предстоит так или иначе столкнуться с Антиохом. Поэтому Публий решил, не теряя времени, заранее изучить царя, для чего надумал отправиться в Азию в составе посольства Виллия Таппула. При этом у Публия возникла еще одна идея, реализация которой требовала именно его присутствии в царской резиденции.
Римские делегации обычно состояли из трех сенаторов. Не желая нарушать традицию, Сципион попросил Публия Элия Пета уступить ему место в посольстве и без труда уговорил своего друга согласиться.
Такое событие, как поездка принцепса в Азию, не могло остаться незамеченным и вызвало немалый ажиотаж и в сенате, и в народе. Но Сципион утихомирил страсти, объяснив, что глобальных планов на предстоящий визит он не строит и в его намерения входит лишь знакомство с будущим противником. Вообще, Публий всячески давал понять, что ответственность за переговоры остается на Виллии и Сульпиции — признанных авторитетах восточной политики, с одной стороны, не желая лишать их первоначальных полномочий, а с другой, стараясь избежать ситуации, когда второе подряд его посольство, решая локальные задачи, выглядело бы в глазах народа безрезультатным. Однако каждое свое высказывание на эту тему Сципион заканчивал интригующей фразой: «Впрочем, некоторую пользу Отечеству я надеюсь принести уже сейчас. Но распространяться об этом пока не стоит».
В конце марта три Публия с многочисленной свитой, достойной видных консуляров, выступили из Рима по Аппиевой дороге, держа путь в Брундизий, где их ждала быстроходная квинкверема.
Сципион исходил и изъездил практически все Западное Средиземноморье: побывал в Галлии, Испании, Нумидии, Карфагене и Сицилии, но на Восток отправлялся впервые. Когда дома все в порядке, приятны дороги дальних путешествий, ум не отягощен думами о насущном и устремлен вперед, навстречу всему новому. Ныне путь Публия лежал в те края, где не раз бродило его воображение, откуда к нему пришли теоретические знания по многим областям жизни, где зародилась человеческая мысль, вырвавшись на свободу из утробы утилитарного быта. На этот раз деревянная фигура нимфы, стоящая на носу его корабля, смотрела не на дикую Испанию, кишащую воинственными племенами, не на великую в своей низости империю наживы — Карфаген, а на Грецию, где было все: варварство и цивилизация, воинственность и трусость, небесное сияние идеи и ползучая корысть, величие и низость, а сверх того, все то, что способен измыслить человеческий разум, и еще гораздо больше.
Публий хорошо знал эту страну. Греция являлась ему в различных обличиях, когда он бывал в Таренте, Массилии, Тарраконе, Сиракузах, в самом Риме и даже в Карфагене, она обращалась к нему с папирусных свитков собственной библиотеки, ораторствовала устами Демосфена, Сократа, Лисия, поучала мудростью самой жизни, запечатленной в исторических трудах Фукидида, Геродота, Ксенофонта и Тимея, пела голосами лирических поэтов и страдала стихом трагиков, она приходила к нему мраморными ногами скульптур, рисовалась взору архитектурными линиями перистиля и портиков, окружала уютом домашней обстановки, украшенной декоративными безделушками. Греция давно сплелась в тесных объятиях с Италией, и Публий сам не всегда осознавал: что в нем латинское, а что греческое. Но при всем том он еще никогда не был в Греции, на той земле, каковой в первую очередь принадлежало это название, не был там, где ключом бил источник удивительной цивилизации, который растекался благодатными струями по всему Средиземноморью.
Однако ознакомиться с Грецией, как того хотелось, Публию не довелось. Напряженная обстановка в этом регионе вынуждала римлян торопиться с исполнением возложенной на них миссии, которая, хотя и не могла в корне изменить ситуацию, все же была необходима. Особенно встревожили послов сведения, полученные в небольших греческих городках, где они останавливались для пополнения ресурсов экспедиции. Там местные друзья римлян сообщили им всевозможные подробности о подрывной деятельности, которую вели в Элладе этолийцы.
Этолия почти не расширила свои владения в ходе кампании Тита Фламинина, и с точки зрения ее жителей это неопровержимо свидетельствовало о коварстве римлян. Вопиющей неблагодарностью казалось им то, что, изгнав из Греции Филиппа, римляне отдали Фессалию фессалийцам, Ахайю — ахейцам, а Этолию — этолийцам, и только. Возмущение обиженных росло не по дням, а по часам. У ненависти, как и у любви, собственная, иррациональная логика: когда легионы Фламинина стояли на Балканах, этолийцы, тыча на них пальцем, подвергали обструкции все миролюбивые заверения римлян, теперь же, с выводом италийского войска из Греции, римляне, в их изображении, сделались еще опаснее. Оказывается, даже самим именем Рим давит на греков так, что они задыхаются, как в неволе. «Уход латинян — всего лишь красивый обман, и в любой момент они могут вернуться, — пророческим тоном вещали стратеги этолийского союза, справедливо полагая, что стоит только им, этолийцам, пойти войною, скажем, на ахейцев, как тут же явятся римляне и водворят их обратно в границы своей прискучившей бесплодной страны. О какой уж тут свободе может идти речь, если нет никакого простора для грандиозных замыслов! Вытрясая из рваного, заношенного слова «свобода» перлы своей пропаганды, этолийцы внушали грекам, что эту самую свободу могут им дать только сирийские завоеватели во главе с Антиохом Великим, который уже осчастливил массированным вторжением немалые области царства Птолемея, а теперь зарится сверкающим добротою взором на Грецию. Готовя общественное мнение в Элладе к покорству пред азиатским агрессором, этолийцы не забывали и о материальной стороне задуманного предприятия, вполне сознавая, что меч тяжелее любого слова, а сарисса острее самого едкого сарказма. Они отправили посольства к трем царям, на чью помощь рассчитывали в первую очередь: к спартанцу Набису, Филиппу Македонскому, ну и, конечно же, к самому Антиоху Великому. Набиса этолийцы уговаривали развязать войну с ахейцами, обещая ему безнаказанность, так как, по их мнению, ради двух-трех ахейских городков римляне, запуганные пропагандой, побоятся ввести войска в Пелопоннес. Филиппа инициаторы очередного передела Эллады призывали к более масштабным действиям, напоминая, что Греция ныне осталась без хозяина, и при этом сулили ему свою бесценную помощь. «Вспомни, царь, что прежде ты сражался не столько с римлянами, сколько с нами, этолийцами, — с самым серьезным видом говорил посол беспокойного народа, — но теперь мы вдвоем, сложив наши могучие силы, обрушимся на презренных итальяшек». И, наконец, Антиоха они торопили воспользоваться глупостью римлян, бросивших завоеванную страну, и поскорее начать переправу войска в Европу, не забывая попутно произносить всякие слова о свободе и справедливости. Стараясь еще более воодушевить его, этолийцы говорили о том, что с ним заодно на территории Греции будут действовать Филипп и Набис, хотя сами цари еще не дозрели до подобного решения, принятого за них этолийцами, и, естественно, непобедимый этолийский народ, а также сообщали конкретные сведения о городах и гаванях, каковые уже сейчас готовы принять его воинов.