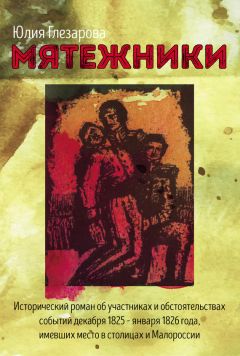Станислав Росовецкий - Самозванец. Кровавая месть
Пан Ганнибал склонился над столом в сторону отца Игнация и поманил его узловатым пальцем к себе. Прошептал:
— Первыми погибли самые ярые, нераскаянные грешники. Те, кто на том проклятом хуторе лютовали больше других, разве я не прав? И еще, того кроме, жулье, обманщики — те беглые надворные казаки князя Острожского, выдававшие себя за запорожцев. Будто я настоящих запорожцев не видал!
Иезуит опять побледнел, потом снова побагровел. Кивнул на беззаботно спящего Георга и зашептал еще тише, чем пан Ганнибал:
— Почему же тогда этот безбожный лютеранин еще жив?
— А разве ночь уже закончилась? — сверкнул глазами ему навстречу пан Ганнибал. — Впрочем, кое-что из твоей задумки стоит применить. Эй, ты, недоумок со жбаном! Ты, недоразумение Господне! Давай сними с пояса у пана, что на полу лежит, смотанную веревку — и на стол! А потом отвяжи с него кирасу (доспех, понял?) и почисть. А мы пока со святым отцом в сени прогуляемся.
Поднялся на нетвердые ноги отец Игнаций, пошарил-пошарил глазами по столу — и вдруг отшатнулся от Спирьки:
— Он нож со стола украл! Поберегись, пане ротмистр!
Пан Ганнибал правой рукой взял слугу за шиворот и отодвинул от себя, левой смахнул со стола объедки и поднял нож, оказавшийся под пустым оловянным блюдом.
— Ишь ты, не украл… Но мы его, паршивца, все-таки свяжем (это ты, святой отец, славно придумал) и уложим наверху под нашей дверью. От греха подальше. Ладно, допиваем и пошли, святой отец.
Наверху подруги услышали, как грохнула дверь, и снова замолчали. Вот дверь снова стукнула, внизу еще потоптались, опять загрохотали, но как-то с заминкой, по лестнице сапоги, донеслась польская шершавая речь.
— А если, Анфисушка, мне встать и придержать дверь спиной? — шепотом предложила Зелёнка.
— Не стоит с этим торопиться, они сначала стучать будут, — Анфиска зевнула, прикрыв рот ладошкой, чтобы бес не залетел. Хотя… есть ли ей смысл бояться такой напасти, если делит ложе с лесной бесовкою?
— Тебе виднее, подруга.
Между тем невдалеке от них шум продолжался. Дважды брякнул засов. В дверь к подругам по-прежнему никто не стучал.
— Они спать укладываются, — уверенно заявила шинкарка. — В лучшей горнице, без дыма. Там двое поляков, немца с ними нет.
— Твоего этого немца, Георгия, я все равно порешу вот этими руками, — Зелёнка выпростала из-под одеяла и неизвестно для чего осмотрела свои бледно-зеленые ручки. — Мерзавцу не жить. Отольются кошке мышкины слезки!
— Тогда Георг расплатится за сотню, а то и за тысячу других таких солдат. Ты бы видела, с какой гордостью он рассказывал о своих, вместе с этим его другом, гнусностях. Правило войны, слышь ты! Будто даже закон войны. Кому нужен такой закон, чтобы сильным и с оружием измываться над слабыми и беззащитными!
— Так бы их всех, наглых усачей, и разорвала!
— Тихо ты!
Шинкарка прислушалась. В горнице вроде успокоились, только в проходе перед ними слышалась слабая возня и ругань шепотом.
— Угомонились, оглоеды, — шинкарка снова прижалась к подруге и вдруг замурлыкала. — Ты напряжена, словно лук… Расслабься, отдохни со мною, коли уж выдался часок… Нет, уж лучше бы я тебе о немецком хвастовстве вовсе не рассказывала! Мне показалось было. да нет, это уж точно… В общем, ты, как я тебе кое-что из того показывала, что обыкновенно меж мужиком и бабой происходит, повела себя так. Ну, вроде тебе любопытно стало.
— Еще бы не любопытно было бы мне, невинной девице! Кое-что и до сих пор в голове не укладывается.
— И ты вроде и ко мне, подружка, стала нежнее, добрее…
— Да, наверное. Я даже подумала, что, если была бы у меня матушка, а еще лучше сестрица, я бы точно так же приходила бы к ней и забиралась бы под одеяло поболтать. А ты еще такая мягкая, сдобная, душистая…
— Только-то и всего? — вздохнула полупритворно шинкарка. — Нет чтобы сказать: «Ты, Анфисушка, — красавица, умница… Давай с тобою еще поцелуемся».
— Отчего ж не поцеловаться? — И Зелёнка, повернувшись к подруге лицом, натолкнулась на ее горячие мягкие груди и живот. Ей стало жарко и вдруг захотелось на свежий воздух, поэтому она не подоткнула за спиной одеяло. — Я же видела, как целовались сельские девки на Семике. Как-то раз нарочно очень далеко ходила, до ближней деревни, до Зиново почти лесом пробиралась, чтобы из чащи с дерева подсмотреть, как они там празднуют. Очень красиво целовались — через кольца, из березовых веток вывязанные. Поцелуются и, значит, становятся кумами на целый год, до следующего девичьего праздника… Эй, так мы с тобою теперь кумы?
— Ну, если хочешь, будем кумами…
— А что до твоих рассказов, Анфисушка, то я тебе честно скажу, что кое-чем они меня обидели. Выходит, что и люди так же сочетаются, как медведь с медведицею, — велика честь, ничего не скажешь!
— А ведь я тебе и другие способы любиться показывала…
— Все одно ведь грязные дела какие-то. и стыдные, ты уж меня извини. может быть, с непривычки? — Она помолчала. — Послушай, а где у тебя стоят румяна и белила? Показала бы, пока лучина не догорела.
— Да вон в тех горшочках, видишь? На самой верхней полочке. А что тебе лучина? Станет догорать, другую вставим.
— Не нужно, Анфисушка! Мне нужно не пропустить, как светать станет. Петуха, ты ведь говорила, вы со Спирькой съели?
Лучина догорела-таки, затрещав и вспыхнув напоследок, и в каморке стало совсем темно.
— Послушай, — спросила шепотом шинкарка. — Неужели тебе, когда мы с тобою играли в мужика и бабу, так-таки ничего и не захотелось?
— Захотелось мне, — Зелёнка потупилась, чего в темноте ее подруга увидеть не могла, однако должна была почувствовать. — Вестимо, захотелось…
— А чего тебе захотелось, родная? — прильнула к ней еще ближе Анфиска, хоть еще ближе прижаться, казалось, было уже нельзя. — Признайся мне, своей подружке, мне-то можно.
— Да вот не скажу тебе, Анфисушка. Понеже стыдно мне, красной девице.
Глава 22. «Мы с тобой разной крови, сынок»
И снова Безсонко проснулся первым в берлоге. Паренек начал рано просыпаться, раньше всех, после того как понял, что он вовсе не настоящий сын могучего великана Лесного хозяина, а только приемный. А вчера постигло его уж настоящее горе. Ведь одно дело подозревать, а другое — знать наверно. К тому же оказалось, что он даже и не медвежье дитя, как с некоторых пор подозревал, а всего лишь слабое человеческое.
Что он на самом деле сын дяди Медведя, закадычного приятеля отца, Безсонко начал догадываться, когда понял, что ведет себя на зимовке совсем не так, как подобает настоящему сыну лешего. Сам Лесной хозяин, его три жены и дюжина настоящих его детей укладывались спать в середине осени (это сейчас дела отца, объявившего войну злодеям-иноземцам, не давали возможности залечь на зимовку всему его семейству) и спокойно пробуждались весной. Для этого им не надо было набивать до отказа брюхо, как поступал дядя Медведь, чтобы безобразно разжиреть осенью, да и просыпались они вовсе не такие злые и тощие, как он. Как будто и не нужно было им на всю долгую холодную зиму никаких питательных соков! Для самого же Безсонко семейное зимнее спанье оказалось настоящей бедой, и он так и не смог понять, как ему удалось выжить в первые годы жизни, когда не мог еще сам позаботиться о своем пропитании.
Конечно же, он готовился к зимней спячке вместе со всем семейством: помогал матери и прочим женам отца подметать берлогу, выбегал наружу вынести мусор, приносил свежий лапник на постели и вытряхивал на поляне свою подушку из мягкой оленьей шкуры. Потом вход в пещеру закрывали дверью, на внешней стороне которой хитроумно прикреплен был хворост, переплетенный живыми многолетними стеблями вьюнка. К вечеру матери отмывали лешачат от летней грязи и расчесывали им волосы, а на ночь отец своим громовым голосом рассказывал сказку о глупом Волке, добром Медведе и хитрой Лисе, одну и ту же сказку каждую осень, однако не только дети слушали его с удовольствием, но и жены. Впрочем, лешачихи вообще глуповаты — об этом Безсонко, любивший свою маму, оказавшуюся теперь названой, раньше не позволял себе думать, а теперь позволяет.
Дети под сказку засыпали один за другим, а с ними и Безсонко, перед сном всегда молившийся Велесу, чтобы проснуться ему уже весной, вместе со всеми. Увы, его поднимал с лапника голод, а того пуще, настоятельная телесная потребность, которую можно было справить только снаружи. Разочарованный, он крался по берлоге, стараясь ступать бесшумно, хоть и знал прекрасно, что родичей теперь и рев дяди Медведя не разбудил бы до самой весны. Потом находил оставленные заботливо для него запасы сушеных грибов и ягод, которые предстояло растянуть на все зимние месяцы.
Вот и сейчас, в первый миг после пробуждения, показалось было ему, что он снова остался один среди спящих сородичей. Однако, поскольку отец еще не вернулся со своей войны, семейство его, хоть и зевало да потягивалось целыми днями, на зимовку еще не укладывалось — боялись, конечно, гнева своего хозяина и повелителя. Да и то сказать: засни семейство сейчас, об окончательной победе могучего Лесного хозяина над супостатами узнало бы оно только через несколько месяцев — это если обиженный батька пожелает поведать!