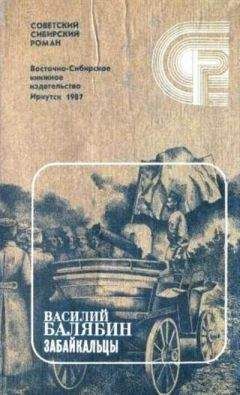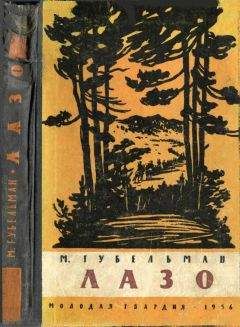Василий Балябин - Забайкальцы. Книга 2
— Значит, Козырь-то дезертир? — полюбопытствовал Михаил.
— Хворменный, он и Петька Подкорытов.
— Где же они теперь?
— А чума их знает, убегли в тайгу и как в воду канули.
Веселая пирушка по случаю прихода служивых продолжалась весь день. Три четвертные бутыли самогонки выпили гости; опьянев, посетовали на революцию, поспорили, быть или не быть царем Михаилу, вдоволь попели старинных песен, и, когда стали расходиться по домам, над селом опустилась ночь.
Домой атаман уходил последним. Надевая шубу, долго не мог попасть в рукав, а когда Михаил помог ему одеться, вспомнил-таки о деле:
— Михайло, ты, значит, это, с документами… приди ко мне… завтра… Писарь, значит, входящие всякие там, исходящие…
— Завтра гулять будем, господин атаман. Милости просим к нам с утра, а к писарю послезавтра сходим.
— А я што тебе говорю, послезавтра штоб по всей форме. Так и скажи писарю: господин атаман приказал — и крышка.
Михаил накинул на плечи полушубок и проводил атамана до ворот.
На следующий день гулянка по случаю прихода казаков возобновилась. Михаил с Орловым в компании родственников и друзей переходили из одного дома в другой, вместе со всеми выпивали, закусывали, пели песни. Однако ни вино, ни песни не могли отвлечь Михаила от мрачных дум, с ума не шли слова атамана «явиться к писарю», а как явишься с фальшивыми документами? Остается одно — бежать в тайгу, разыскивать Козыря с Подкорытовым или к Орлову в Чалбучинскую станицу, там, по словам друга, и безопаснее будет и легче прожить.
— Как у Христа за пазухой проживем там, — уверял Орлов Михаила, когда им удалось остаться вдвоем. — Хозяйство у моего отца большое: десятка три лошадей, рогатого скота больше сотни, и овец, и свиней, и хлеба — всего полно.
— В работниках у тебя буду, значит?
— Ничего подобного, работников у нас и без тебя хватит. Я один сын у отца, а ты мне будешь заместо брата. Будем вместе хозяйством править, работать по своему желанию, а пользоваться будешь всем наравне со мной.
— Далеко это, вот в чем дело-то. В тайге-то я поблизости буду находиться и домой могу понаведываться, мать попроведать.
— Это уж дудки, Марья Ивановна: сбежишь в тайгу, так и про дом забудь, слыхал, что атаман про дезертиров калякал вчера, а? То-то и оно. А матери-то сколько беспокойства из-за тебя: и харчей тебе приобретать, и посылать их как-то надо, а у меня и тебе будет хорошо и матери спокойнее.
— И чего ты обо мне так стараешься?
— Чудак ты, Мишка, ей-богу, я не только о тебе, а и о себе стараюсь. Ежели у нас в поселке нельзя будет жить, так придется махнуть за границу — на китайскую сторону, там у нас своя заимка верстах в сорока от границы. Конечно, одному там жить тоска задавит, а вдвоем, да с такими винтовками, не житье будет, а малина. Населения там никакого, раздолье, тайга, и козы, и кабаны, и медведи там водятся, и пушнины всякой полно, будем охотиться и жить в свое удовольствие, пока эта заваруха — война — не кончится.
— И будем там все время вдвоем?
— Нет, почему же. В сенокос там полно народу, и наши приедут, сено косить будем. Ох, какие там сенокосы, пади большие, широкие, травы родятся такие, что-то особенное, пырей в рост человека вымахает. Поэтому выезжаем косить пораньше, пока он не перерос, не выколосился, а такой, в пояс человеку. Выйдешь рано утречком, а он густой, шелковистый, роса на нем сизая-сизая, махнешь литовкой, эх, мать честная… — Орлов замолк, зажмурившись в блаженной улыбке, потер рука об руку, и видно было, что по душе ему работа на сенокосе и что руки его соскучились по труду. — Хорошо там во время покосов, а вечером у костра столько веселья…
— Ну хорошо, это летом, а зимой?
— Зимой скот пригонят на заимку, там и девок и ребят полно, весело будет, так что вдвоем нам придется побыть осенью да весной.
— Значит, там и окромя вашей есть заимки?
— В каждой пади полно их, по два, по три зимовья вместе. Домой оттуда сено возить далеко, вот его и скармливают скоту на месте. Наша станица на берегу Аргуни, на самой границе расположилась. Пахотной земли у нас много, а сенокосов не хватает, и лес от нас далеко, верст за пятьдесят. Вот мы всем этим и пользуемся из-за границы, арендуем у китайцев.
Много порассказал Орлов в этот вечер своему другу-однополчанину. От него Михаил узнал и о китайской территории, что граничит с русским Забайкальем, и о том, что впадают оттуда в Аргунь три реки: Хаул, Дербул и Ган, вот почему этот район Северной Маньчжурии именуется в Приаргунье Трехречьем. И что вся огромная территория Трехречья, с ее дремучей тайгой, богатой строевым лесом, с ее не знающими плуга целинными землями и обширными сенокосными угодьями, совершенно не заселена. Лишь по самому берегу Аргуни, против русских казачьих сел и станиц, ютятся глинобитные фанзы и лавки китайских купцов да в тайге по Дербулу изредка встречаются кочующие семьи охотников-орочонов.
— Правда, вот за это время, — продолжал Орлов, — напротив Олочинской станицы порядочно поселилось китайцев, целый городок, Шевисьян называется. А туда — в глубь Трехречья — поезжай за сотни верст и, кроме наших заимок, никакого жилья не встретишь.
Рассказывал Орлов так живо и красочно, что Михаил не устоял от соблазна побывать в тех краях, поохотиться, пережить войну на зимовье друга.
— Ладно, — согласился он, — пусть будет по-твоему, едем к тебе.
Выехать решили завтра же и вечером, когда вернулись домой с гулянки, сообщили об этом Платоновне.
— Мишенька, куда же ты от меня? — Всплеснув руками, Платоновна опустилась на скамью. — Только глаза показал и снова ехать! Да что же это такое!
— Эх, мама, разве я поехал бы? Я ведь тебе не рассказал, что из полка-то мы самовольно, дезертиры мы с Орловым, вот оно какое дело-то.
— Царица небесная, что же теперь делать-то?
— Вот и едем в Чалбучинскую станицу, к Орлову, там у него место есть надежное, где до конца войны можно прожить.
— Вы, тетенька, успокойтесь, — вступил в разговор Орлов, — жить Михаил будет у меня все равно что дома, писать вам изредка. А здесь ему никак нельзя. Ну сами подумайте.
Продолжая уговаривать плачущую Платоновну, Орлов повторил ей все то, что рассказал Михаилу.
Как ни хотелось бедной матери задержать у себя сына хотя бы на недельку, полюбоваться на него, но, понимая, какая ему грозит опасность, волей-неволей согласилась.
Утром поднялись задолго до рассвета. Пока Платоновна растопила печь и приготовила завтрак, казаки напоили лошадей, оседлали, завьючили их и задали в торбы овса. Когда они вошли в избу, вместе с ними клубами ворвался морозный воздух, густым туманом расстелился по полу.
— Ох и мороз сегодня, — заговорил Михаил, снимая полушубок, — так копотит, что от нас демидовскую избу не видать.
Платоновна, опершись подбородком на сковородник, вздохнула:
— Как же вы поедете в этакую стужу?
— Ничего-о. Мерзнуть будем, спешимся, пробежим с версту, с две, вот и согреемся. Нам это дело привычное.
Завтракали за кутним столом, при свете ярко топившейся печи. На столе перед ними горкой лежали горячие колоба[27], тоненько шумел самовар. Ели молча. Михаил загрустил, чувствуя на себе ласковый, тоскующий взгляд матери. Вспомнилось ему детство и почему-то особенно отчетливо одно, вот такое же зимнее утро. Тогда так же ярко топилась печь, так же пофыркивал на столе самовар и тоже ели горячие колоба, а у маленького Мишки тогда было одно желание — отпроситься у матери на Ингоду: там дядя Евдоким с Демидом загородили заездок и в этот день будут поднимать из прорубей — высматривать морды[28]. Воспоминания прошлого теплой волной нахлынули на Михаила, и от них эта старая, с низким потолком избушка, такая теплая, уютная, стала еще милее его сердцу, и он сегодня не променял бы ее на самый лучший дом в станице.
Еще более тяжко переживала предстоящую разлуку Платоновна.
— И что это за судьба такая горемычная, — горестно вздохнула она, глаз не сводя с Михаила, — думала, дождалась одного, второго ждать буду, а оно вон как обернулось. Боже ты мой милостивый, когда же все это кончится?
Слезы душили Платоновну, но она крепилась, страдала молча, лишь сковородник, когда она пыталась подцепить им сковородку, плохо слушался, подпрыгивал в руках хозяйки, выдавая ее волнение.
Первым, поблагодарив хозяйку, вышел из-за стола Орлов, за ним поднялся Михаил. Платоновна прислонила к печи сковородник.
— Мишенька, подожди, родной. — Она прошла в передний угол, сняв икону и благословив сына, залилась слезами.
Михаил как мог утешил мать, и вот казаки уже засобирались в дорогу: поверх полушубков опоясались патронташами, надели папахи, башлыки, разобрали оружие и, пригибаясь в дверях, гремя о порог шашками, вышли. В стареньком ватнике, накинувшись шалью, следом за ними вышла Платоновна, открыла ворота. Казаки вывели лошадей в улицу, простились с Платоновной.