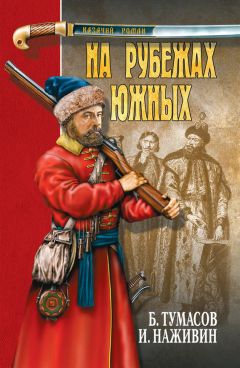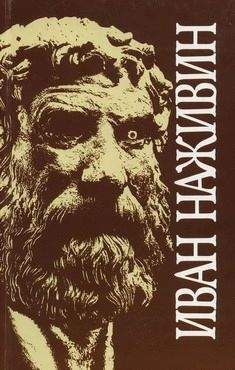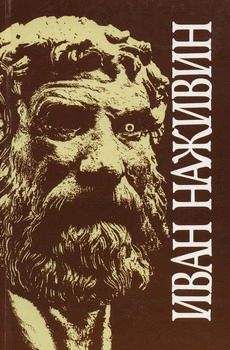Иван Наживин - Степан Разин. Казаки
– Подводи ближе к стулу...
Отец Левонтий извивался, рычал, визжал как поросёнок. Но Ивашка медлительно делал своё дело и бросал маленькие кусочки окровавленного мяса в сторону. Наконец он выпрямился и, держа окровавленные руки врозь, задыхающимся голосом сказал:
– Ну, а теперь владей им, кто хочет!..
Толпа с дикими глазами исступлённо заклубилась. Слышались крики: сожечь... распять на воротах... повесить кверху ногами... И никак не могли сойтись на одном, и каждый тащил обезумевшего старца к себе. И вдруг Ягайка со звериным рычаньем бросился на отца Левонтия, сшиб его на притоптанную траву и, прежде чем все могли опомниться, впился ему зубами под бородой в горло. Раздался жуткий хруст... Нетерпеливые руки оттаскивали Ягайку прочь, его колотили, щипали, ему кричали: «Отпусти!., наш он!., отпусти, дьявол!..» Но Ягайка точно ничего не слышал, точно окаменел в своем бешенстве и не отпускал.
– Ну, что ты вот с дьяволом делать будешь... А?... – хлопали мужики себя по ляжкам. – Да отпусти, чертище!.. Да что, ребята: кончился старик...
Действительно, выкатившиеся глаза отца Левонтия остекленели, тело все обмякло и неприятная белизна разлилась по грубому лицу. Ягайка, наконец, отвалился. Он встал и, шатаясь, смотрел вокруг себя ничего не понимающими глазами. Его рот и нос были в крови. Бабы, визжа, лезли к нему к лицу с кулаками, но он всё ничего не понимал... А толпа в остервенении била труп о землю, рвала его, волочила, рычала, хохотала... Ребята, как воробьи, возбуждённой стайкой крутились вокруг.
Ивашка Черноярец вернулся в Царицын на целую неделю раньше, чем предполагал, на зорьке утренней, и сразу бросился в опочивальню.
– Милый... Солнышко моё.
– Ну, вот теперь я твой уж навовсе...
И две полные горячие руки, крепко сжав его, потянули его к себе...
XXV. Иосель
Самара била белым, пьяным, весёлым ключом. Самарцы вооружались, чтобы вместе с казаками идти вверх по Волге на Симбирск, на Казань, на Нижний, на Москву... Успеху восстания в Поволжье содействовало два обстоятельства: во-первых, по Волге было много ссыльных из Москвы, – только после бунта в 1662-м году было сюда сослано около пятнадцати тысяч человек, – а во-вторых, крестьянские тяготы тут за царствование Алексея Михайловича увеличились в несколько раз. Со всех сторон прибегали гонцы, что народ волнуется, народ поднимается, народ ждёт нетерпеливо избавителя. Это окрыляло: если так пойдёт и дальше, то до заморозков можно быть и в Москве. Степан уже раскаивался немного, что он отправил ещё из Астрахани послов и к шаху персидскому, и к крымскому хану, предлагая им союз против Москвы: и одни казаки управятся. При появлении славного атамана на улицах Самары все смотрели на него влюбленными глазами, а многие падали пред ним ниц. И не раз, и не два тёмной ноченькой обдумывал он думку: не сплавить ли куда незаметно и патриарший струг, на котором ехал старец Смарагд, и царевичев, на котором прятали на всякий случай одного молодого казака, который мог в случае нужды сойти за царевича? Только руки себе, пожалуй, этими делами свяжешь... И до того уверенность в победе была разлита вокруг, что в его войске появились уже не только приволжские бобыли, не только беглые холопы, беглые солдаты, беглые стрельцы, но вливались в него целыми отрядами и озлобленные мордва, черемисы и чуваши: они были не так давно покорены Москвой и потому тяжесть московской длани была для них, детей лесов, особенно чувствительна, тем более что местные служилые люди делали всё возможное, чтобы тяжесть эту удесятерить. Появились латыши, недавно поселившиеся на Волге, и поляки из вновь от поляков отвоёванного Смоленска, и пришел откуда-то какой-то «литвинко». Приходили попы деревенские, которым надоела и нужда несусветная, и все новые и новые требования московских «властителей», – то, чтобы читать по новым, непривычным книгам, то, чтобы не петь «Госапади Сопасе», как пели до сих пор, а непременно чтобы было «Господи Спасе», – и озлобление против них, долгогривых, жеребьячей породы, со стороны народа, среди которого приходилось жить и голодать. Как ни трудись, как ни вертись, в результате всё одно: яко благ, яко наг, яко нет ничего... И когда осторожно корил их кто-нибудь за воровство, то говорили попики, что «нужда закона не знает, а через закон шагает, – сытый голодного не разумеет»...
Дело волшебно ширилось, росло, и казаки как бы уже шли далеко впереди самих себя...
Казаки-часовые, стоявшие на крыльце воеводских хором, где жил теперь атаман, раз уже отгоняли какого-то настырного жидовина, который всё лез повидаться с ясновельможным паном атаманом.
– Ша!.. – возмутился, наконец, один из них, побывавший в свое время на Украине. – Вот лезет бисов сын!.. Та тебе ж, дурню, кажуть, шо у атамана старшины, шо неможно... Колы треба, так сидай вот туточки и ожидай...
– Ахххх... – всплеснул руками жидовин. – Так мне же треба не по своему делу!.. Казаки сегодня уходят дальше, а дело самой первой важности... Ясновельможный пан гетман озолотит вас, если вы меня к нему допустите – прямо-таки вот так с головы до ног и озолотит...
– Да ты кабыть в тюряге тут сидел, как мы пришли?... – присмотревшись к нему, сказал другой часовой.
– Сидел. Вот по этому самому делу и пришел я к ясновельможному пану гетману...
– А ну геть!.. – потеряв терпение, крикнул вдруг первый. – Довольно балакано... Геть!..
Жидовин, невысокого роста, жирненький, с неприятно белым лицом, с чёрными, в перхоти, пейсами, скатился с крыльца.
В горнице стукнуло окно.
– Что ещё там? – раздался сильный голос Степана.
Жидовин, присмотревшись к атаману, весь даже скрючился отчего-то, но тотчас же, овладев собой, заулыбался и закланялся...
– Ах, ясновельможный пан гетман!.. У меня к вам дело огромной важности, а казаки ваши – такие строгие, такие верные!.. – никак не пускают меня... Не своё дело, нет, а для вас стараюсь... И что такое не пускать? Ежели моё дело не подойдёт ясновельможному пану гетману, ясновельможный пан даст мне в зад пинка, только и всего, а если подойдёт, ясновельможный пан наградит Иоселя... Одна минута, и всё готово...
Эта готовность получить в зад пинок была так убедительна, что никак нельзя было Иоселю сопротивляться.
– Пустите его, казаки!..
Иосель катился уже по лестнице. Казаки враждебно покосились ему вслед.
– Ясновельможный пан гетман... Падам до ног...
– Но, но, но... – грозно прикрикнул на него Степан. – Я этого не люблю! Кто ты, откуда, зачем? И чтобы не врать, а то...
– Ой, как же можно врать такому ясновельможному пану? Я скорее язык откушу себе, чем...
– Не вертись... И постой: мне говорили, что в тюрьме жидовин один был. Это ты, что ли?
– Я, ясновельможный пан гетман, я...
– За что посадили?
– Невинно, ясновельможный пан гетман, видит Бог, невинно... – изгибаясь и поднимая обе руки с растопыренными пальцами кверху, заговорил Иосель. – Я на Москве был и вот... и вот там... оказались нехорошие люди, которые – уж вы будьте милостивы, ясновельможный пан гетман... – старые медные деньги на серебряные перебеливали... Ну, всех их похватали: сперва, как полагается, на правёж, а потом горячим оловом горло им всем позаливали... А я, точно нарочно, знаком с ними был. И меня схватили. Но начальные люди сразу увидали, что Иосель чист, совсем как новорожденный младенец, что его оговорили по злобе... О, московских начальных людей не проведёшь!.. – в упоении закрыл он глаза, поматывая растопыренными пальцами правой руки туда и сюда. – На три аршина в землю они видят... Но чтобы Иосель был в выборе своих знакомцев осторожнее, старый дурак, они постегали его маленько на кобыле и послали на вечное житьё в Астрахань... И вот ясновельможный пан гетман – дай ему Бог много лет здравствовать!.. – освободил меня, бедного человека, и я – только из благодарности, ясновельможный пан гетман, верьте мне, – решился передать вам об одном важном деле. Ясновельможный пан гетман хочет дать чёрному народу волю, и вот я...
– Какое дело у тебя до меня?... – перебил его Степан, которому он уже надоел.
– А может, ясновельможный пан гетман дозволит переговорить не в сенях?...
– Так что мне, в крестовую, что ли, тебя вести?... – нахмурился Степан. – В передней у меня свои люди... Говори здесь. И поживее: мне надо на берег пройти...
– Я знаю, что у ясновельможного пана гетмана великие расходы... – заторопился Иосель, сразу понизив голос и приняв таинственный вид. – Нужны гроши и на войско, и ещё больше нужно грошей населению, чтобы оно видело щедрость ясновельможного пана гетмана и шло бы за ним охотнее...
– Ну?
– Ну, так вот... – затруднился Иосель и, вдруг осторожно блеснув на атамана своими чёрненькими глазками, добавил: – Так вот, если угодно ясновельможному пану гетману, я с его разрешения мог бы для ясновельможного пана гетмана... перебелить медные деньги на серебряные...
Степан в упор смотрел на него: казны у него хватает, но разве излишек кому когда мешал?...