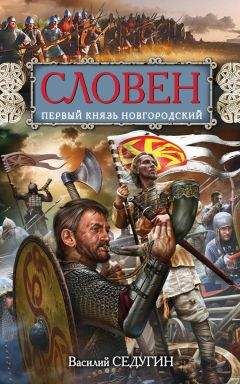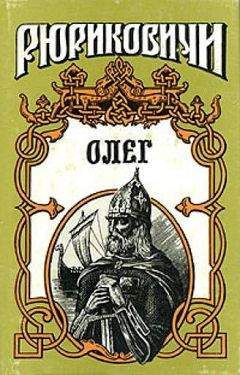Натан Рыбак - Ошибка Оноре де Бальзака
Такое искреннее признание заслуживало награды — приглашения. Он ждал. Среди хлопотливых мыслей мелькнуло и воспоминание о скрипаче Мусии. Мысль о старике долго не покидала его. В лавке он выбрал чудесную старинную скрипку итальянской работы и заказал для нее дорогой футляр.
В один из майских дней скрипка в черном футляре появилась в доме на улице Фортюне и заняла почетное место в одном из книжных шкафов.
Скрипку увидал писатель Шанфлери. Удивился.
— Метр, неужели вы владеете и этим чудесным инструментом?
— К сожалению, нет, мой друг. Это подарок на Украину.
— Вы собираетесь туда?
— Непременно. Как только пройдет премьера «Мачехи», я выеду из Парижа. Мне нечего здесь делать. Париж не для меня, мой друг.
Беседа с Бальзаком заставляла трепетать юное сердце Шанфлери, тем более что учитель называл его «мой друг». Вытягиваясь в кресле, подбирая под него ноги в стоптанных башмаках, Шанфлери то и дело проверял, хорошо ли у него застегнуты пуговицы поношенного зеленого сюртука, не выбилась ли случайно из рукава не совсем свежая сорочка. Еле переводя дух, широко раскрыв глаза, он ловил каждое слово Бальзака.
А тот, кутаясь в широкий шерстяной белый халат, приглядывался к раскрасневшемуся лицу молодого писателя. Ему нравилось благоговение, с которым ученик смотрел на него. Он видел круги под глазами юноши. Это добрая примета. Молодой писатель не спит по ночам.
Словно подтверждая его догадку, Шанфлери рассказывал о своих планах. Увлеченно излагал Бальзаку тему своей будущей книги. Внимание Бальзака возбуждало его фантазию.
— В добрый час, — напутствовал его метр. — Трудитесь, мой молодой друг, трудитесь, не жалея ни сердца, ни души, мы уйдем, а дело надо продолжать.
От этих слов за плечами у Шанфлери выросли крылья. В этот миг он высоко под облаками состязался с могучим орлом.
— Это хорошо, что вы такой пылкий, — говорил Бальзак, — это чудесно. Жаль, что в наше время мало таких молодых людей, — жаловался он.
— Я мог бы рассказать вам о своих бессонных ночах… — Шанфлери умоляюще смотрел ему в глаза.
— Не стоит, — остановил его метр. — Единственно, что хочется посоветовать вам, мой друг, это — изучайте язык. Не все даже из отмеченных славою знают его. Кого еще мог бы я прибавить к Гюго и Готье?
Бальзак задумался и через минуту покачал головой:
— Никого. Наш труд романистов — тягчайший труд. Всю жизнь, как каторжник, прикованный к своей тачке, сижу я за этим столом, всю жизнь я не имею возможности разогнуть спину. Чтобы не умереть голодной смертью, я пишу романы. Тридцать лет я работаю по пятнадцать часов в сутки, а что из того? У меня нет лишнего франка! Я живу в этом прекрасном доме по милости чужих людей, которым он принадлежит, — собственно, они оставили меня здесь швейцаром.
Эти слова похожи на исповедь. Не будь здесь Шанфлери, он говорил бы сам с собой.
— Я советую вам писать романы и рассказы только для собственного удовольствия. Если вы хотите зарабатывать — пишите пьесы, только ими можно добыть деньги на роскошную жизнь, которой достойны истинные художники. Вот Ламартин пустился в политику и ничего не зарабатывает, — отметил с удовлетворением Бальзак. — Что же, он умрет нищим на соломе. Впрочем, он совсем не знает французского языка.
Шанфлери сидел неподвижно, выслушивая горькие слова. Крылья за спиной опустились. Перед ним расстилалась дорога, покрытая уже не цветами, а терниями. Он попытался заговорить с метром о «Мачехе», но из этого ничего не вышло.
Бальзак сидел напротив, молчаливый, погруженный в свои мысли. Шанфлери понял, что время прощаться. Он поднялся и почтительно склонил голову перед Бальзаком. Тот крепко пожал его руку. У дверей Шанфлери замедлил шаг, оглянувшись на мраморный бюст метра, в полтора раза больше натуральной величины. Ему показалось, что живой Бальзак гораздо лучше.
— Вы, я вижу, интересуетесь искусством, — обрадовался Бальзак. — Я покажу вам свою галерею.
Шанфлери шагает по ступенькам за хозяином. Они поднимаются на второй этаж и входят в длинную галерею. На почетном месте в окружении других полотен висит огромный портрет монаха-доминиканца.
Шанфлери с нескрываемым удивлением останавливается перед ним. Он не понимает, чем привлек Бальзака этот страшный монах со злобным лицом, недобрыми глазами и жилистыми руками, похожими на щупальца спрута… «Зачем здесь это чудовище?» — безмолвно, одними глазами осмеливается он спросить. Бальзак понимает этот немой вопрос. Глядя поверх тяжелой золоченой рамы, он наставительно говорит Шанфлери:
— Религия всегда будет политической необходимостью, мой друг. Как станете управлять народом, склонным к размышлениям? Чтобы запретить размышлять, надо внушить чувство. Поэтому — примем католичество со всеми его последствиями. Если мы хотим, чтобы Франция ходила в церковь, разве мы не должны посещать ее сами? О Шанфлери, — Бальзак бросил на него взгляд, полный значения, — религия — это звено, связующее все консервативные принципы, позволяющие богачам жить спокойно. Она тесно связана с частной собственностью. Священник и король — это же вы и я, это воплощенные интересы всех порядочных людей.
В голосе Бальзака звучала неприкрытая ирония. Он засмеялся, — казалось, он сам очень доволен высказанными сентенциями.
Показывая, что к этому более не следует возвращаться, он взял Шанфлери за локоть и повел к другой стене.
— Смотрите, это рама Марии Медичи. Сам Ротшильд завидует мне.
— То, что вы перед этим говорили, — робко замечает Шанфлери, — я уже где-то слышал.
Мгновение он колеблется, потом, восторженно прикусив палец, скороговоркой произносит:
— Метр, вы написали это в книге «Герцогиня Ланже». Неужели и вы думаете так?
Бальзак ничего не ответил. Он разглядывал раму Марии Медичи, словно впервые видел ее. Он снова взял Шанфлери за локоть и повел его в смежную комнату. Там, остановясь перед пустой резной рамой, он хвастливо сказал:
— Когда известный голландский антиквар узнал, что у меня есть рама этого мастера, он заявил, что отдаст все до последней капли крови, только бы получить половину…
Шанфлери зачарованно оглядывается вокруг. Ему кажется, что он уже был здесь. В самом деле, вот картины в тяжелых рамах, на которых желтеют тучные поля, вот рыбаки, вот рыцари, бешено гарцующие на конях, вот беззубый столетний старец с посохом в руке. Не замечая своего волнения, Шанфлери повторяет:
— Боже мой, да это же галерея кузена Понса!
На губах Бальзака довольная улыбка. Он ведет Шанфлери дальше. Они входят в большую темную комнату, заставленную книжными шкафами. Шанфлери кажется, что он попал в царство книг.
Час спустя, уже оставляя чудесный дом, он выслушал новые жалобы метра, но, после всего виденного, не понял этих жалоб.
«Кому нужны были эти жалобы? — оставшись один, думал Бальзак. — Что они могли прибавить? Ворчанье стареющего человека», — сделал он вывод и успокоился.
И это искусственное спокойствие длилось еще много дней, оно держало его за письменным столом, оно оправдывало его одиночество в его собственных глазах. Директору исторического театра Готштейну перед премьерой «Мачехи» он озабоченно и откровенно сказал:
— Мой дорогой шеф, спектакль «Мачеха» — это будет что-то ужасное… Но поймите меня правильно. Речь идет не о мелодраме, где предатель поджигает дом и держит в страхе жителей.
Краснощекий Готштейн, улыбаясь, забавлялся дорогим перстнем на руке. Он готов был слушать о каких угодно страхах господина Бальзака. Его занимала писательская фантазия.
— Нет, шеф, послушайте! — Бальзак взмахнул рукой, точно сжимая в ней саблю и снося голову невидимому противнику, и запальчиво крикнул: — Нет, шеф! Я мечтаю о салонной комедии, где все мирно, радушно. Мужчины играют в вист при свечах, под мягкими зелеными абажурами. Женщины смеются и болтают над своими вышивками. Пьют патриархальный чай. Словом, все являет порядок и гармонию.
Охваченный своими мыслями, он задумался. Готштейн, облокотясь на стол, несмело попросил:
— Дальше, мсье Бальзак. Дальше.
— И вот над всем этим бушуют страсти, драма зреет и движется, пока, наконец, не прорывается, как пламя пожара. Вы понимаете, Готштейн?
Бальзак торжествующе ударил директора театра по плечу. Тот упал на диван, раскинув руки и крича:
— Я понимаю, но к чему эти неосторожные движения, метр!
Бальзак не заметил ни своего поступка, ни крика Готштейна. Он отступил на несколько шагов от дивана и, сдерживая жестом собеседника, продолжал:
— А после этой пьесы я напишу вам, только для вашего театра, Готштейн, чудесную трагедию.
Он поднял руку и застыл на миг, согревая директора блестящими глазами.
— Вина! — крикнул Готштейн, вскакивая с дивана. — Скорее вина!