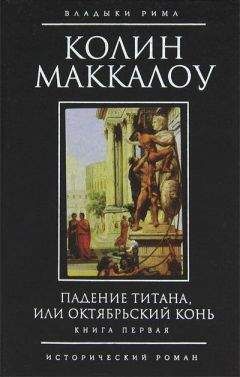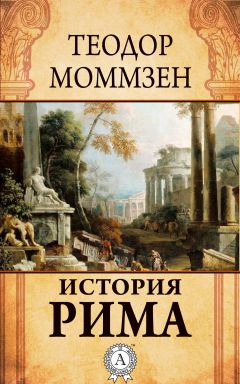Михайло Старицкий - Буря
Далее всем вменялись любовь, смирение, верность и милосердие: «Чтобы все братия милосердия были зерцалом И прикладом всему христианству побожных учеников».
— «Глаголет–бо священное писание, — заключил торжественно брат вытрикуш, — да просветится свет ваш перед человеки, да, видевше ваша добрая дела, прославят отца вашего, иже есть на небесех».
— Теперь, брате, ты слышал наши артикулы, — обратился к Богдану Крамарь, — отвечай же нам по чистой и нелицеприятной совести: согласен ли ты покоряться им во всем? «Яко лучше есть не обещатися, нежели, обещавшися, не исполнити».
— Саблей моей клянусь исполнить все свято и непорушно! — вскрикнул горячо Богдан.
— Добре, — заключил брат Крамарь, — клянися ж нам в том не саблею, а святым крестом! — и, вынувши из братской скрыньки темный серебряный крест простой и грубой работы, поднял его с благоговением над головой. Перед Богданом поставили небольшой аналой, на котором лежало евангелие, сверх него положили обветшавшую грамоту; подле аналоя стали с двух сторон братья вытрикуши с высокими зелеными свечами в руках. Все встали; Богдан поднял два пальца.
— Во имя отца, и сына, и святого духа, — начал он громко и уверенно, — я, раб божий, Зиновий—Богдан{55}, приступаю до сего святого церковного братства и обещаюсь богу, в троице единому, и всему братству всею душою моею, чистым же и целым умыслом моим, быти в братстве сем, не отступаючи до последнего часа моего…
Дальше шел целый ряд страшных клятв, в случае измены брату. «Да буду и по смерти не разрешен, яко преступник закона божия, от нее же спаси и сохрани мя, Христе боже!» — окончил Богдан.
— Аминь! — заключил торжественно Крамарь. — Отныне ты брат наш и телом, и душою…{56} Не ищи же в беде ни у кого защиты, токмо у братьев своих, и верь, что они положат за тебя и душу свою! — и Крамарь порывисто заключил Богдана в свои объятия.
— Витаю тебя всем сердцем, брат мой, — подошел к Богдану Балыка, и Богдан увидел, как старческие глаза его блестели тихою радостью, — всем сердцем, всем сердцем, — повторял он, обнимая Богдана, — да единомыслием исповемы.
— Братчики милые, — обратился Крамарь к собранию, — витайте же и вы нового брата.
Давно жданное слово словно сбросило оковы со всего собрания. Шумная толпа окружила Богдана. Горячие руки пожимали его руку, принимали в объятия; добрые постаревшие и молодые лица, воодушевленные пробудившеюся энергией, радостно заглядывали ему в глаза. «Будь здоров, брате, милый, ласковый брате!» — слышал он отовсюду и, куда ни оборачивался, всюду видел радостные, оживленные глаза.
XXX
Долго продолжалась дружественная братская беседа; наконец брат Крамарь ударил молотком.
— Постойте, панове–братья, — обратился он ко всем, — нашему новому брату надлежит исполнить еще одну повинность, о которой знаете вы все. Брате Богдане, при вступлении в наше братство каждый брат офирует до братской скрыньки двенадцать грошей, кто же хочет дать больше — может, только с доброй воли своей.
Богдан вынул из пояса толстый сверточок и высыпал на стол двенадцать червонцев.
— Благодарим тебя от всего братства, — поклонились разом старшие братья. — Брат вытрикуш, — обратился Крамарь к своему соседу, — подай новому брату «Упис» и каламаря (чернильницу).
Перед Богданом положили на столе «Упис». Богдан перевернул толстые пожелтевшие листья и подписал под длинным рядом подписей крупным витиеватым почерком: «Прилучылемся до милого братства Богоявленского киевского рукою и душою. Богдан Хмельницкий, писар его милости войска королевского, рука власна».
— Хвала, хвала, хвала! — зашумели кругом голоса.
— Панове–братья, — обратился Богдан к Крамарю и Балыке, когда- поднявшийся шум немного умолк, — дозволите ль молвить мне слово?
— Говори, говори! — возгласили разом и Крамарь, и Балыка.
— Ласковые пане–братья: мещане, горожане и рыцари киевские, — поклонился Богдан всему собранию, — от всей души моей благодарю вас за честь, что выбрали меня в братья свои. Воистину настал–бо час, когда только в братстве своем можем искать мы защиты. Нет у нас больше ни прав, ни законов, охраняющих поселян и горожан в каждой стране: единый–бо оборонец наш, король, поруган и унижен сеймом и лишен всяких прав. Все вы знаете о том страшном злодеянии, которое потерпел я, да разве я один? Все это ожидает каждого из нас! Утесняют вас выдеркафами и налогами. Это еще золотые времена: скоро отберут у вас и крамницы ваши, скасуют и цехи. Мало! Удалось вам с помощью козаков посвятить на святые епископии после долголетнего пленения превелебного митрополита и епископов{57}, и утишилась уния в нашей стороне, но теперь уже не то! Король, говорю вам, уничтожен, и под покровительством ксендзов и унитовширится уния и охватывает наш край. Вы не знаете того, что творится там… за вашими городскими стенами, — арендаторы забирают церкви божьи в аренду, обращают в скотские загоны; священнослужители сами жгут их, чтобы не отдавать в поругание… И единую силу нашу, войско козацкое, стараются теперь уничтожить паны… Нигде, братья, нигде не найдем мы помощи едино друг от друга! Так будем ли мы розниться, козаки от горожан, и горожане от козаков? Не единой ли мы, братья, матери дети, не за одно ли дело святое стоим?
В комнате послышался едва сдерживаемый шум.
— Когда не станет на Украйне козаков, — продолжал Богдан, — тогда погибнет последняя сила, которая еще сдерживает панов, и заглохнет тогда уже навеки и вера наша, и имя наше, и вся наша украинская земля. Скажите же мне одно слово, братья: если настанут те горькие часы, когда женам и детям придется бросать дом свой и искать пристанища у медведей и волков, не откажете ли вы тогда в своей помощи братьям или оставите их гибнуть один за другим за свой обездоленный край?
И вдруг все ожило в мрачном зале. Горячий порыв заставил всех забыть строгие артикулы устава. Казалось, сильный вихрь ворвался на широкую степь и закрутил, заметал сухой, посеревший ковыль. Строгие степенные горожане вскакивали на лавы, махали Богдану шапками, выкрикивали горячие, прочувствованные слова.
— Поможем! Все отдадим! Ворота откроем! Едино тело, един дух, едины есмы! — раздавались отовсюду воодушевленные возгласы.
Когда утихли наконец шумные порывы восторга, брат Крамарь напомнил всем, что пора идти в церковь отслужить благодарственный молебен по случаю принятия нового брата.
— Сам превелебный владыка будет служить сегодня, — пояснил он Богдану, — я известил его о прибытии твоем.
Братчики начали выходить из собрания парами, чинно, один за другим.
Взволнованный и растроганный вступил Богдан в обширный братский храм. Таинственный, тихий сумрак наполнял его… У наместных образов теплились свечи и лампады, но остальная часть храма тонула под высокими сводами в густом полумраке. Братчики остановились перед царскими вратами. Богдан оглянулся кругом: сквозь узкие окна купола смотрело синее звездное небо, и страшный небесный знак, теперь еще увеличившийся, горел на нем зловещим огнем…
Вытрикуши роздали всем братьям высокие зеленые свечи; а Богдану еще большую, тяжелую свечу, разукрашенную венчиками и цветами… Свечи зажглись одна от другой, и свет наполнил полуосвещенный храм. Послышался звук запираемой двери… Кто–то робко кашлянул, кто–то вздохнул, и все замерло в немом ожидании… Голубая шелковая занавесь царских врат тихо всколыхнулась и отдернулась; из–за резных, золоченых врат показалась внутренность алтаря, наполненная легким голубым полумраком; свечи на престоле горели высоким треугольником, а у иконы богоявления, занимавшей всю заднюю стену, колебалась на серебряной цепи красная лампада, словно капля сверкающей крови… У престола, спиной к церкви, стоял наипревелебнейший владыка Петр Могила, митрополит киевский. Богдан увидел только высокую сильную фигуру в белом парчовом облачении и серебряной митре на голове.
— Слава святой и единосущней троице! — раздался громкий и властный голос.
— Аминь, — прозвучало тихо с хор. Служение началось.
Ни единый звук, ни единый шорох не нарушал святости служения… Освещенные восковыми свечами лица горожан были строги и серьезны… Тихо, вполголоса раздавалось с хор простое, но за душу берущее пение, и только голос митрополита звучал в этой смиренной тишине громко, повелительно и властно. Давно неведомое умиление спустилось на Богдана… Как теплые волны ласкают и успокаивают измученное тело, так умиротворяло оно больную душу его… И обиды, и оскорбленья, и пережитое горе как бы исчезали из памяти… Перед ним стояло ясно только что пережитое братское собрание. «Едино тело, един дух, едины есмы», — повторял он сам себе, и это сознание наполняло его душу чувством нового братского единения. Хотя он еще не видел лица митрополита, но уже одна сильная осанка его и голос, звучавший так уверенно и властно, невольно влекли к себе его сердце. Способствовала ли тому громкая молва и слава, которая окружала имя Могилы, или действительно его величавая наружность так очаровывала человека, только Богдан ждал с нетерпением, когда владыка оборотит к молящим лицо свое. Служение близилось к концу. Митрополит повернулся наконец от алтаря и появился в царских вратах. Драгоценные камни в серебряной митре его ярко горели и словно осеняли его венцом сверкающих лучей. Лицо его было темного, почти оливкового цвета, длинная черная как смоль борода спускалась на грудь, густые брови сходились над сильно очерченным орлиным носом, огромные черные глаза глядели смело, каким–то огненным, проницающим насквозь взглядом. Вся фигура, все лицо его дышали той силой, умом и энергией, которые так властно приковывают к воле своей все сердца. Владыка остановил на Богдане свой пристальный взгляд, и глаза их встретились. Богдан почувствовал, как этот огненный взгляд вонзился в него и словно насквозь прохватил его сердце.