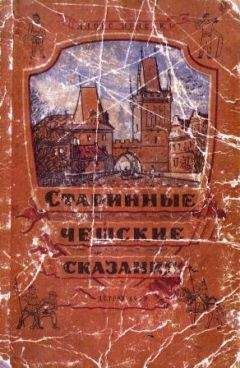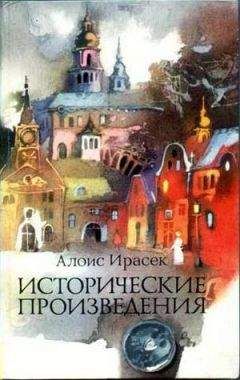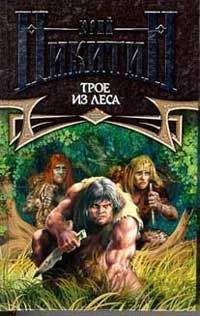Алоис Ирасек - Псоглавцы
Осужденный остановился под виселицей, обвел глазами город Пльзень и расстилавшийся за ним широкий край, потом оглядел толпу, которая, как живое море, волновалась вокруг печального холма. Он снова увидел земляков, пришедших проводить его в последний путь. Они стояли не шевелясь, многие сжимали кулаки; у всех стояли слезы на глазах, и не один, подобно Искре, громко всхлипывал. Увидел он жену и мать и задержал на них свой взгляд, затем повернул голову туда, где собрались паны. Он искал Ламмингера. Тргановский пан сидел на вороном коне и не спускал глаз с помоста. Козина выпрямился во весь рост и посмотрел ему в лицо так же твердо, как когда-то в сельском правлении у Сыки. Всем стало не по себе. Господа и палач растерянно переглядывались.
— Ломикар! — воскликнул Козина звенящим голосом, грозно прозвучавшим в могильной тишине. На бледном лице его выступил последний румянец, в последний раз вспыхнули огнем его глаза. — Ломикар! Не пройдет года и дня, и мы предстанем вместе перед престолом верховного судьи, и тогда увидим, кто из нас…
Голос Козины внезапно оборвался. Офицер, распоряжающийся на месте казни, встрепенулся. Блеснула шпага, и палач быстро выбил из-под ног осужденного скамейку. Яна Сладкого, по прозвищу Козина, не стало.
Краевой гетман, ошеломленный неожиданным происшествием, что-то говорил Ламмингеру. Тот слушал его, бледный как смерть, но едва ли слышал. Губы его искривились в растерянной улыбке. Только когда краевой гетман несколько раз повторил ему, что на них все смотрят, барон опомнился.
Он бросил взгляд на виселицу.
— Висит… — с облегчением произнес он и повернул коня. Тысячи людей стояли вокруг холма на коленях и молились вместе со священником за покойного Козину. Не только внутри каре, где находились земляки казненного, но и далеко вокруг, в разных местах, слышались громкие рыдания.
На обратном пути в город Ламмингер видел, как на него показывали пальцами, и со всех сторон до него долетали возгласы:
— Вот он! Палач! Это он приказал казнить его!
— Они еще встретятся там, куда его звал Козина! Господа поспешно пришпорили лошадей.
Глава тридцатая
И весть печальная летит,
Во все дома стуча,
Что храбрый Козина убит
Рукою палача.
Но только год и день пройдет,
За все господь воздаст.[13]
До заката солнца висело тело Козины. Ходов уже не было в Пльзне. Они хотели, но не смогли помолиться у тела своего защитника. Отряд солдат, по приказу краевого гетмана, сопровождал ходов далеко за город. Огорченные, усаживались они на телеги, но гнев их был направлен не против гетмана, а против Ламмингера. Они возвращались домой печальные и подавленные. Если Ломикар хотел, чтобы сегодняшний день врезался им в память, то он этого достиг. О, да, никто из ходов не забудет двадцать восьмое ноября, и память об этом дне будет переходить из поколения в поколение, пока останется на свете хотя бы один ход.
Весь Ходский край содрогнулся от возмущения и горя. У мужчин, бывших в Пльзне и рассказывавших теперь о виденном и пережитом, навертывались слезы и дрожал голос, а слушатели горько плакали. В течение нескольких дней во всех ходских деревнях было точно после похорон. Никто не ходил на барщину, и панская дворня не отваживалась принуждать крепостных барона, как раньше. Точно так же не осмелились они сказать хоть слово, когда из всех ходских деревень мужчины и женщины, старики и дети, все в траурных одеждах, сошлись в Домажлице и отправились в загородную ходскую церковь отслужить панихиду по Козине. В готическом храме, стены которого были расписаны старинной иконописью и в плиты которого были вмурованы камни со старыми надписями и гербами, собралось множество людей — не только ходов, но и домажлицких горожан, пришедших отдать последний долг казненному. Впереди всех стояли на коленях мать, жена и дети Козины. Они горячо молились за того, у могилы которого они не могли преклонить колени. А в самом дальнем углу, под хорами, стоял на коленях, молился какой-то маленький невзрачный человек. Когда он по окончании панихиды родные Козины проходили мимо, он низко опустил голову, чтобы его не узнали. Это был токарь Юст. Он только что отбыл наказание за подстрекательство и всего лишь несколько дней как вернулся из тюрьмы домой.
Ламмингера в это время в Трганове уже не было. Он не вернулся в замок, а послал туда нарочного за женой, чтобы она тотчас же приехала в Пльзень. «Страх и нечистая совесть гонят его отсюда», — говорили в городе и в деревнях.
Снег в этом году выпал рано. Зима была печальнее, чем обычно, особенно в Уезде. Старый Пршибек опять впал в оцепенение. Не оживился он и с наступлением весны, не повеселел, даже когда после страды пришел в Уезд отсидевший свой срок молодой Шерловский и посватал Манку. Старик дал свое согласие, так как в доме нужен был хозяин. Свадьбу решили сыграть осенью.
С приближением осени старик начал как бы приходить в себя. Он все чаще выходил за ворота и медленно шагал к пригорку, откуда был виден Трганов. Было начало осени. В Трганов неожиданно приехал Ламмингер. Старик ждал божьей кары, — обрушится ли она на голову жестокого пана? Часто во время грозы следил он с пригорка, не поразит ли молния Ламмингера. А если Манка во время бури не выпускала его из дома, старик молча сидел на лавке, прислушивался к вою ветра, покачивал головой и беспрестанно поглядывал на дверь, словно ожидая, что кто-нибудь войдет и скажет, что меч правосудия нашел и поразил рыжего злодея.
Барон фон Альбенрейт приехал в этом году в Трганов поздно, прежде он приезжал сюда ранней весной, а теперь прибыл после жатвы. Говорили, что он приехал поохотиться. Но вот уже которую неделю жил он в замке и только раз побывал в лесу. Охота перестала его развлекать. Он нисколько не изменился, как всегда был холоден, строг, даже, пожалуй, строже обычного, но в то же время проявлял большую настороженность, никуда не выезжал. Старый камердинер Петр замечал, что барон, оставаясь наедине, подолгу расхаживает у себя по комнате и о чем-то размышляет. Как будто и здоровье стало ему изменять. Не раз Петр видел, как барон, проходя по комнате, вдруг хватался за спинку кресла или за край стола, и придя через минуту в себя, проклинал головокружение. Барон жаловался иногда жене, теперь более печальной, чем в прошлые годы, на зрение, что часто какая-то радуга заволакивает все перед его глазами, а ночью, если он внезапно просыпается, в глазах у него мелькают искры и молнии. Жаловался он изредка, мельком, сердито, умалчивая при этом, что часто мучают его по ночам кошмары. Все же старый Петр, который спал в коридоре, рядом с комнатой барона, слышал, как стонет и кричит барон во сне. Однажды, отвернув портьеру, он подглядел, как при свете ночника его господин, привстав на постели, озирается вокруг вытаращенными от ужаса глазами.
Однажды ночью — это было в конце сентября, когда на дворе лил дождь и свистел ветер, — Петра разбудили стоны Ламмингера. Вскоре барон позвал его. Петр вошел к нему. Барон, весь в поту, прерывающимся голосом сказал:
— Подай мне календарь…
— Календарь, ваша милость? Сейчас?..
— Да… сейчас… я хочу знать, какое у нас сегодня число.
— Завтра двадцать восьмое. Я знаю, ваша милость, без календаря.
Барон вздрогнул и быстро спросил:
— Какого месяца?
— Сентября, ваша милость.
— Ах, да… Этот сон меня запутал. Даже в пот бросило. Дай мне другую сорочку.
Старый камердинер вернулся к себе в коридор испуганный. «Что это мерещится барону? Двадцать восьмое сентября, — ну, так что же? — И вдруг он вспомнил. — Тогда в Пльзне… это было двадцать восьмого числа. Да, немудрено, если это не выходит у него из головы», — подумал старик и начал молиться за умерших.
Болезненные припадки никогда не продолжались у барона долго. Но они повторялись в последнее время все чаще, и барон становился более угрюмым, раздражительным и молчаливым. Тщетно жена его допытывалась, что с ним, тщетно уговаривала посоветоваться с врачом.
Тяжело и скучно жилось в эту зиму баронессе. Гостей в замке не бывало, а неприветливый, молчаливый муж едва ронял несколько слов за день. Тем более была она обрадована, когда пришло письмо от младшей дочери, в котором она сообщала, что скоро приедет в Трганов вместе с мужем. Баронесса встретила этой новостью вернувшегося из поездки в Кут супруга. Ламмингер выслушал ее сообщение спокойно, но вдруг криво усмехнулся и сказал:
— Дождусь ли я их…
— А что такое? — удивилась баронесса.
— А разве вы забыли, что тот мужик, Козина, позвал меня на божий СУД?
Ламмингер засмеялся, но от его смеха баронессу бросило в дрожь.
Наступили сырые, туманные дни. Почти все время моросил мелкий дождик. Барону опять нездоровилось. Появился шум в ушах, и часто ему чудилось, будто он слышит звон колоколов. «Похоронный звон», с усмешкой объяснял он жене. Казалось, он много думает о смерти, хотя и гонит эти думы от себя и подсмеивается над смертью, а все же боится ее. Бывало, младшая дочь его Мария, ныне графиня фон Вртба, в присутствии сурового молчаливого отца роптала на эти бесконечные тоскливые вечера в Тргановском замке. Что она сказала бы теперь, если бы видела мать в обществе отца, еще более замкнутого, раздражительного!