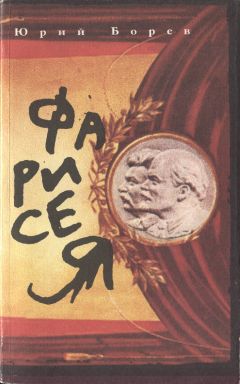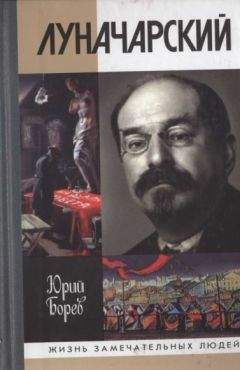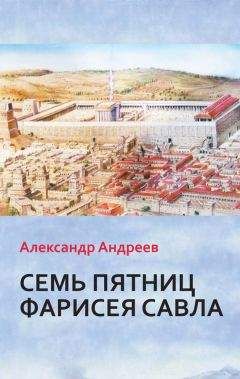Дмитрий Мережковский - Александр Первый
– Не знаю, оттого ли, что я очень болен, или уже годы не те, но я не имею силы бороться с болезнью.
Вспомнилось и то, что сказал он князю Васильчикову, когда выздоравливал:
– Я дешево отделался, но в сущности был бы не прочь сбросить это бремя короны, страшно тяготящей меня.
Рад был сбросить ее вместе с жизнью.
Чем больше думала об этом, тем больше боялась; знала, что он сам никогда не заговорит, а спросить – как бы хуже не было.
Услыхав шаги его, покраснела опять, как влюбленная девочка. Он вошел и поцеловал руку ее, а она его – в голову.
– Уф, едва вырвался! Семейный обед в Аничковом, – заговорил он по-французски, как всегда с ней говорил: – сегодня маменька весь день за мной по пятам. В последнюю минуту послал им сказать, что не буду, а то не отпустили бы… Ну, а вы как?
– Ничего, лихорадки днем, кажется, не было, и меньше кашляю.
– Слава Богу! Только берегитесь, не выезжайте, погода ужасная; слякоть, ветер с моря. Вода поднялась; пожалуй, наводнение будет…
Пили чай, играли в шашки; говорили о маленьких придворных событиях и сплетнях. Она старалась казаться веселой.
Зашла речь о последней семейной сваре из-за фрейлины Протасовой, полоумной старухи, которую императрица-мать взяла под свое покровительство, в пику государыне.
– Ах, если бы вы знали, мой друг, как я устала от этих дрязг! Маменька, Никс, Мишель, Александрин – все против меня. Настоящий заговор…
– Полно, Lise, оставьте, не думайте. Ну, что вам до них? Вы же знаете, чем они хуже к вам, тем лучше я…
– Этого-то и не могут мне простить! Готовы на все, чтобы повредить мне в ваших глазах. Особенно – маменька. И что я им сделала? За что такая ненависть?..
Говорили о родных, как о чужих, почти о врагах. Враги человеку домашние его, – оба понимали, что это значит.
– Неужели вы думаете, Lise, что все это может иметь на меня какое-нибудь влияние? – произнес он ласково и взял ее за руку.
Она молчала, потупившись.
– Не верите? – повторил он еще ласковее.
– Верю, но если мне трудно, не моя вина…
– А чья? Говорите, говорите же все, Lise, ради Бога!
– Я узнаю иногда от других то, что должна бы знать от вас, – сказала она и, подняв глаза, посмотрела на него решительно.
– Что же именно?
– Отреченье от престола.
– Сколько раз я говорил вам. Забыли?
– Говорили в шутку.
– Ну, не совсем…
– Да, не совсем: Константин уже отрекся, и Николай – наследник.
– Откуда вы знаете? Ничего не решено. Может быть, после моей смерти…
– Нет, при жизни. Вы так и сказали им. Маменька спрашивала меня: «Не показывал ли он вам чего-нибудь?» Значит, есть что-то…
Наклонившись над кучкой бирюлек, он старался выудить боченочек.
– Скучные дела, мой друг! Вы знаете, я никогда не говорю с вами о политике…
– Тут не политика, а ваша судьба и моя. Как могли вы решить, не сказав мне? Им говорите, а от меня скрываете…
– Ну, вот вы теперь знаете, Lise! И разве не рады? Быть свободными, жить вместе, – помните, как мы мечтали детьми…
Она покачала головой.
– Нет, не то. Вы не хотите сказать, а я знаю. Тут другое…
Что другое? Что вы знаете? – спросил он тихо и посмотрел на нее, молча, долго; разрушил кучку бирюлек, отвернулся и стал мешать угли в камине.
– Тайное Общество, – сказала она так же тихо, не отводя от него глаз.
Он быстро обернулся. Лицо исказилось, как от внезапной боли, и что-то промелькнуло в нем такое жалкое, трусливое, как у человека, который сходит с ума, знает это и боится, чтоб другие не узнали.
– Глупые сплетни! – сказал уже спокойно, овладев собою; встал, прошелся по комнате, взял со стола книгу, прочел заглавие: «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, – перелистал и бросил.
– Прошу вас, Lise, никогда не говорить со мной об этом. Ни со мной и ни с кем. Слышите?
– Не я говорю, а мне говорят, – ответила она, бледнея.
Старая обида заныла в душе, как старая рана. Что ему доставляются тайной полицией письма ее и что он вскрывает их так же, как письма всех членов царской фамилии, – давно уже знала; но никогда не говорила с ним об этом – стыдилась; гнусным казался ей этот обычай, сохранившийся от времен Павловых. Теперь вспомнила о нем и подумала, что он смотрит на нее такими же глазами, какие у него должны быть во время чтения вскрытых писем. В тысячный раз обманулась, поверив близости его, и в тысячный раз все так же больно, как в первый; за тридцать лет не привыкла и никогда не привыкнет.
– Кто? Кто вам сказал? – повторял он все настойчивей, все подозрительней. – Мне нужно знать, Lise! Ну, будьте же рассудительны. Прошу вас, если вы меня любите…
И вдруг опять промелькнуло в лице его что-то трусливое, жалкое, подлое: «Да, подлое!» – подумала она с возмущением. Разве не подлость – выпытывать, допрашивать так, смотреть на нее глазами сыщика?
Отвернулась, стала наливать чай; но руки так тряслись, что уронила чашку; заплакала.
– Что вы, Lise? О чем? Вы меня не так поняли. Я сам давно уже собирался сказать вам об этом. Но вы больны: я не хотел…
– Да разве лучше так? – воскликнула она горестно. – Хуже, хуже всего, не может быть хуже! Оттого и больна. Вы молчите, а я… Как же вы не видите, что я не могу, не могу больше, сил моих нет!
Он подошел к ней и опустился на колени.
– Ну, полно, Lise, ради Бога, не надо… – целовал ей руки. – Неужели я не сказал бы, если б что-нибудь было? Но ничего нет; по крайней мере, я не знаю. Может быть, вы больше моего знаете? Мне иногда самому приходит в голову, нет ли тут поважнее лиц? – прибавил с хитростью.
Она вдруг перестала плакать; забыв о себе, думала только о нем, о грозящей ему опасности.
– Мне говорил Карамзин и мой секретарь Лонгинов. Но, кажется, об этом знают все…
И рассказала все, что слышала. Когда кончила, он посмотрел на нее с улыбкою.
– Охота же вам из-за таких пустяков мучиться!
Утешал ее, успокаивал: все это ему давно уже известно; в руках его все нити заговора; он даже знает по именам заговорщиков; истребить их ничего не стоит; если же медлит, то потому, что жалеет несчастных, «заблуждения коих суть заблуждения нашего века»; ждет, чтобы сами одумались; впрочем, все меры приняты, и нет никакой опасности.
Говорил так искренно, что она почти поверила; умом верила, а сердцем знала, что он лжет; в глазах его видела ту ясность, которой всегда боялась, – бездонно-прозрачную и непроницаемую, как у женщин, когда они лгут. Но не имела силы бороться с ложью; готова была на все, только бы не видеть опять того трусливого, подлого, что промелькнуло в лице его давеча. Изнемогла, покорилась.
«Может быть, и прав он, – думала, – что на помощь ее не надеется: где уж ей помогать, других поддерживать, когда сама от слабости падает?»
Ничего не сказала, только посмотрела на него так, что вспомнились ему кроткие глаза загнанной лошади, которая издыхала на большой Петергофской дороге, уткнув морду в пыль, с кровавою пеною на удилах.
– А знаете, Lise, что больше всего меня мучает? То, что от меня несчастны все, кого я люблю, – заговорил он, и сразу почувствовала она, что он теперь не лжет.
– Несчастны от вас?
– Да. Софьина смерть, ваша болезнь – все от меня. Вот чего я себе никогда не прощу. Знать, что мог бы любить и не любил, – больше этой муки нет на свете… О, как страшно, Lise, как страшно думать, что нельзя вернуть, искупить нельзя ничем… А все-таки в последнюю минуту я к вам же приду, и ведь вы меня…
Не дала ему кончить, охватила руками голову его и прижала к себе, без слов, без слез, только чувствуя, что один этот миг вознаграждает ее за все, что было, и за все, что будет.
Кто-то тихонько постучался в дверь, но они не слышали. Дверь приоткрылась.
– Ваше величество…
Оба вскочили, как застигнутые врасплох любовники.
– Кто там? – воскликнула она. – Я же велела… Господи, ну, что такое? Войдите.
– Ваше величество, их императорское величество, государыня императрица Мария Федоровна, – доложила фрейлина Валуева.
Государыня взглянула на мужа с отчаянием; тот поморщился. Валуева смотрела на них с любопытством, как будто делала стойку и нюхала воздух.
– Ну, чего вы стоите? Не знаете ваших обязанностей? – прикрикнула на нее государыня. – Ступайте же, просите ее величество.
– Не бойтесь, Lise, я как-нибудь спроважу ее поскорее; скажу, что вы больны, и дело с концом.
Государыня вышла в уборную.
– Вот вы где, Alexandre! A мы вас ищем, ищем, думаем: куда пропал? – заговорила, входя, императрица Мария Федоровна.
В шестьдесят пять лет – свежая, крепкая, гладкая, сдобная, румяная, как хорошо пропеченная булка из немецкой булочной; несмотря на полноту, затянута, зашнурована так, что, казалось, платье на круглой спине лопнет по швам; все лицо в ямочках-улыбочках, которые хотят быть любезными, но иногда вдруг сладким ядом наливаются. Всегда в суете, впопыхах, «точно на пожар торопится», как покойный супруг ее, император Павел, говаривал.
– А ведь я не одна, Alexandre: мы все вместе к вам, по-семейному, – и Никс, и Мишель, и Александр, и Элен, и Мари. Они сейчас будут. Уж вы меня, дорогой, извините: я им позволила; сами не смеют, да и я сюда без доклада не смею. А мы все по вас так соскучились! – болтала, трещала без умолку на скверном французском языке с немецким выговором. – Да где же она? Где Lise?..