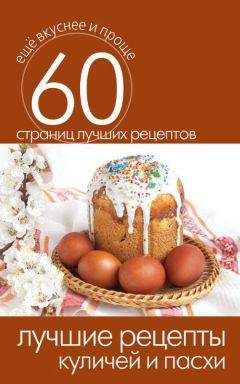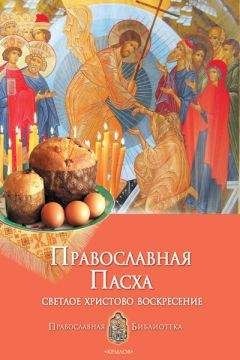Валерий Шамшурин - Купно за едино!
— Спаси Христе впредь от такого злыдня, — перекрестился один из мужиков.
— В Курмыш Смирному Васильичу жалобу отписать бы, — подсказал другой.
— Пра, един бес, что Курмыш, что Нижний, — размыслил третий. — Им бы три шкуры с нас драть, а заступы никакой. Тишком верней будет. Наедут дознатчики и батогов не пожалеют.
— В топоры надоть, мужики, в топоры, посоветовал обезображенный рваным рубцом через все лицо Семейка Стучи Брюхо, про которого знали, что он был у Болотникова и в тушинском стане.
— Не, баловать не станем, — покосился на его рубец староста. — Переждем, чай, лихо, не вечно оно. А жалобу в Курмыш я седни же отошлю…
Сетуя да рассуждая, стояли мужики посередь разграбленной улицы. Некому их было утешить, некому взбодрить. И малого просвету для себя не видели они нигде.
3Когда весть о Биркине дошла до курмышскрго воеводы, Елагин с отрядом стрельцов немедля припустился к Ядрину в надежде перехватить нижегородских посланцев на большой Казанской дороге.
Смирной Васильевич был норова угрюмого, раздражительного. Никто ему из окружения перечить не осмеливался, а повеления его исполнялись неукоснительно. Он считал себя полным хозяином всюду, куда простиралась его власть, не стесненная никакими границами.
Неоднократные послания Пожарского и Юдина к Елагину не возымели никакого действия. Курмышский воевода даже не удостоил нижегородских военачальников ответом. Зато он охотно сносился с арзамасскими верховодами князем Иваном Путятиным и дьяком Степаном Козодавлевым, которые после отъезда смолян в открытую прямили Заруцкому. По-соседски благоволил он и к признававшим его сурским городам Алатырю и Ядрину, опекал черемисский Кузьмодемьянск на Волге и самовольно подчинил себе близкие большие села Княгинино, Мурашкино да Лысково, хоть они исстари принадлежали Нижегородскому уезду. Разорительный проезд Биркина по окрестным землям, где Елагин, пользуясь смутой, сам учинял поборы, разгневал его до крайности. И он намеревался жестоко проучить нижегородского наглеца.
Как и Курмыш, приткнувшийся к реке Суре Ядрин был сплошь деревянным поселением, огражденным старым покатым валом и обветшавшим острогом. Улочки кривые, неухоженные, грязные. Избы были неряшливо крыты соломой, топились по-черному и, запачканные копотью, скособоченные, встрепанные удручали жалким видом. Даже обильно выпавший снег не мог скрыть убожества.
Ядрин полностью разделил незавидную долю бывших некогда сторожевых поселений на востоке Руси. Давно тут миновала опасность сокрушительных вражеских налетов, давно не угрожала русскому государству сломленная Грозным Казань и в бдительной сторожбе не было великой надобы. А здешних переметчивых жителей, по большей части инородцев, царская власть, поминая их прежние грехи и дремучее язычество, оставила на божью волю, не забыв, впрочем, о поборах. Пользуясь ее попустительством, наезжавшие сборщики-обиралы легко запугивали и обманывали темных людишек, беря с них втрое, а то и более сверх ясачных денег.
Жила в Ядрине, как и возле него, голь забитая, диковатая. Тут сошлись разные языцы, где вперемешку были чуваши, татары, горная черемиса, мордва да и немало русских: пахотников и мелкого служилого люда. Что им не скажи — все одобрят, начальственно прикрикни — склоняться, а только всяк себе на уме, всяк норовит дурачком прикинуться и ни в какое рисковое дело не встревать. Не выставляться — первая тут заповедь. Крутое ордынское иго да после него государевы волостели крепко несчастных людишек покорству и смирению выучили. Но бывало, что и терпению приходил конец. Тогда безумное отчаянье кидало страстотерпцев в пламя такого свирепого бунта, когда ни перед пыткой, ни перед самой смертью страха нет, и ни своей, ни чужой крови не жаль. И нигде не вызывала в народе такую ненависть царская власть, как в самых глухоманных, презренных местах. Еще в пору болотниковского мятежа Присурье отломилось от Шуйского и уже не хотело примыкать ни к каким «законным» царям.
Елагину же, безотлучно пребывающему тут в смутное время, доподлинно ли не знать, что державная Москва с боярским царем на престоле для здешнего люда — возврат к вящей неволе, кнуту и непосильной дани. Вот почему трещавшие всему миру о любви к народу и не жалеющие никаких щедрых посулов самозванцы, на которых ополчалось и которых губило московское боярство, пользовались окрест сочувствием. И вот почему курмышскому воеводе многих удавалось настраивать против нижегородского ополчения, что якобы только и собиралось для того, чтобы возродить старые обычаи и освободить Москву для «законного» грозного царя. Хитер был Елагин, но вся хитрость его вылезала наружу, когда он, не хуже государевых обирал, перехватывал с поборами. И рука у него тоже была не легче. Но куда людишкам податься от своей земли? В других местах еще лютее: сплошь смертоубивство и раззор. Пусть уж Елагин, а не иной лиходей, а тем паче не государевы и ненасытные живодеры.
Но если земля зыбилась у всех под ногами, то зыбилась она и под Смирным Васильевичем. Никому, и ему тоже, не дано было предугадать, куда свернет колея завтра. Пытаясь оградить себя от всяких помех, он с еще большим упорством пресекал попытки любого умаления его власти.
Въехав в Ядрин, Елагин увидел у распахнутых перекошенных ворот убогого дворишки городового приказчика Ивана Симонова. Приказчик орал и махал кулаками на зареванных испуганных баб. Конский топот заставил его повернуть голову. И чем ближе подъезжал воевода со стрельцами, тем больше преображался Симонов, меняя суровую личину на сладостно умильную. Все затрепетало на нем: и шапка с алым верхом, и крашеная шубейка, и сабля, заткнутая за кушак. Был бы у Симонова хвост, он бы завилял им.
Засуетившись, приказчик шуганул баб, подбежал к Елагину, вцепился в стремя и чуть ли не облобызал воеводский сапог, выказывая свою преданность.
— Были нижегородцы? — брезгливо кривясь от его низкопоклонства, спросил Елагин.
— Утресь проехали, обоз великий, а самих и сотни нет, — с угодливой поспешностью, будто хотел доставить несказанную радость, повестил Симонов.
— Бестолочь! — толкнул его сапогом воевода, расстроившись оттого, что, пожалуй, наверняка упустил Биркина.
Симонов нисколько не обиделся и взахлеб понес вздор о какой-то рыжей кобыле, что была уведена со двора у курмышского татарина Хлуберды ядринским татарином Аптышкой и которую никак не могут разыскать в Ядрине, хотя он, приказчик, выбился из сил, со всем прилежанием ведя розыск.
У Елагина начали буреть щеки. Густые широкие брови сошлись на переносице. Он стал страшен, обретая сходство с ястребом, готовым с лету вцепиться в ничего не подозревающую жертву.
— Пошто?… Пошто ты ко мне с кобылятиной суешься? — задыхаясь от гнева, взревел воевода. — Не ведаешь, с кем толкуешь?
— Прости, милостивец, — очумело захлопал глазами и мигом оросился на колени перепуганный приказчик. — Рассудил я, коль кобыла та курмышска, то и ответ за нее пред тобою держать пристало.
И не мог понять воевода, то ли всерьез завел речь о кобыле Симонов, то ли потешить хотел, а то ли насмешничал. Скользкий народец тут, не ухватишь. Еще более помрачнев, Елагин снова осведомился:
— Не утек у вас кто в Нижний?
— Покойно у нас, — вставая с колен, с прежней угодливостью ответил городовой приказчик. Но, помолчав, сказал обратное: — Коли по правде, то ины навострили лыжи. В Нижнем-то, вдругоядь уж слух прошел, мужик власть забрал. Из посадских де. Вот и сумятно у чувашей: кто верит тому, а кто нет. Прознают толком — и ни весть кака сшибка учинится.
— Шелепуг давно не видали! — выбранился воевода и, едва не сбив отскочившего Симонова, пустил коня вскачь. Стрельцы понеслись за ним следом.
Но погоня не задалась. За Ядрином Елагин напоролся на загородившую проезд конницу татар. Конница неостановимо крутилась на месте, взблескивали над головами кривые сабли, словно татары изготавливались к схватке меж собой. Посреди круга бешено спорили двое мурз в островерхих малахаях с лисьими хвостами назади. Воевода, зная по-татарски, прислушался.
Тот, что помоложе, гибкий и верткий, привскакивая над седлом, тыкал нагайкой в сторону Нижнего.
— Кире бор атынны! Хур итмэ безне!
Другой, плотный, крутоплечий, напирал и напирал на соперника, пытаясь своим конем оттеснить его коня.
— Узем белям мин кая барасыны! Кылган жил унгаена ята.
— Курше — колан бер берен бэлядан ташламаска тиеш.
— Минем куршем — Кырым ханы, синен куршен — Мэскэу. Элле Иван Грозный Казан каласын талаганны оныттынмы?…
— Татар дигэн даным бар. Мижгарлар белэн бергэ кубам дигэн антым бар.
— Ахмак син!
— Кара эгле бэнбе син![33]
Враз поделившись надвое, татары поскакали в противоположные стороны. Меньшая их часть с молодым мурзой, словно не замечая елагинского отряда, пролетела обочь его, осыпав взвихренным снегом.