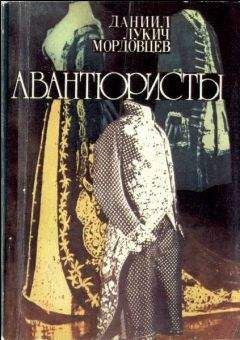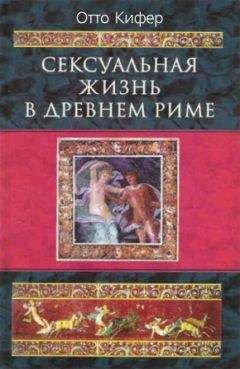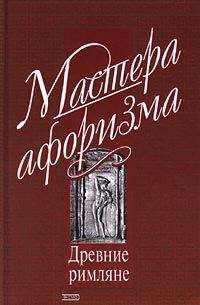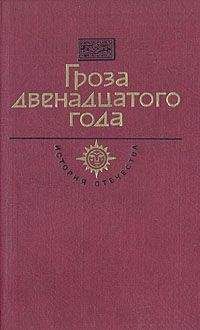Даниил Мордовцев - Царь Петр и правительница Софья
— Их потешные не пустят.
— Не говори, Федора: без своего сокола и потешные, что куры мокрые, стрельцы их голыми руками заберут.
Родимица продолжала качать головою.
— Что качаешь? — не вытерпела Софья.
— Не верю.
— Ах ты Фома неверный!
— Не поверю, матушка, пока не увижу.
— Ин слушай же! — разгорячилась Софья. — Ты говоришь, что стрельцы под Азовом стоят?
— Под Азовом.
— Ан нет! Слушай-ка: сейчас сестра Марфа присылала певчего к моей постельнице, к Вере Васютинской…
— Это Демушку-певчего? — перебила ее Родимица.
— Демушку, а что?
— Ох, матушка, наживем мы беды с этим Демушкой.
— Что так?
— Верка-то…
— Васютинская?
— Она самая… О-ох!
— А что, Федорушка?
— Али не заметила?
— Не заметила ничего… Что такое?
— Да пузо-то у ней на нос лезет.
— Как пузо?
— Да чижала.
— Что ты!
— Верно слово, беременная, почти на сносех.[13]*
— Ах, матушки! — удивилась Софья. — От кого же?
— Да все от Демушки… Я давно замечала… А нехорошо, ежеле девка в монастыре обродится: на тебя, матушка, покор будет, твоя постельница.
Софья задумалась.
— Хорошо, я разберу это дело, — сказала она, помолчав, — ишь ты, хохлуша! А какая, кажись, скромница.
— Что делать, матушка! Дело молодое…
— Правда, Федорушка… Так сестра Марфа и велела ноне сказать Верке через Демку: у нас-де наверху позамялось: хотели было бояре, из наших, маленького царевича удушить, чтоб совсем извести нарышкинское семя, только его подменили, а его платье на другого робенка надели, да царица узнала, что это не царевич, и сыскала царевича в другой горнице, так бояре-де царицу по щекам били. А об царе сказывали, неведомо жив, неведомо мертв, а вернее того, что его не стало, так надо-де о царстве промышлять, и для того-де по стрельцов указ послан, чтоб шли меня на державство ставить.
Родимица сосредоточенно молчала, как бы к чему-то прислушиваясь.
— Так вот каки вести, Федорушка, — закончила Софья.
— Дай-то Бог, — вздохнула старая постельница, — только, может, это одни разговоры.
— Где разговоры! Стрельцы уж у Воскресенского: не нонче завтра к Москве будут. Так-то, Федорушка! Тогда вот я и отпущу тебя, когда ты нам свадебную постельку постелешь…
— Ох, матушка! Уж свадебную!
— А то как же? Ты скажешь, я стара? Правда, не молоденькая девчонка: поди, и все сорок наберется… Так что за беда! Не одним молоденьким венцы златые куются.
— Оно так, матушка, какая еще твоя старость!.. Вон я, старая да окаянная, и то у своей дочери родной жениха отбила… О-ох, горе мое!
— А что Сумбулов? — спросила ее царевна.
— С горя, матушка, да с печали постригся.
— Что ты, Федора!
— Истину говорю, царевнушка золотая: сама видела Максима в чернеческом клобуке.
— А в котором монастыре постригся?
— В Чудове… Слышала я в ту пору, когда царь здесь был, сказывали: пришел в Чудов государь к обедне, а после обедни и видит, что все чернецы подошли к антидору, один токмо не подошел. Царь и спроси: кто этот чернец, что антидора не берет. «Сумбулов был на миру, говорят, Максимом звали, дворянин, а после боярство получил от царевны-де Софьи Алексеевны за то, что вместо Петра — Иоанна — царевича на царство выкрикивал на Красном крыльце». Царь и подзови его к себе. Для чего ты, говорит, не подошел к антидору? Не посмел, говорит, пройти мимо тебя и поднять на тебя глаза. А царь и велел ему итить к антидору, а после того вдругоряд подзывает его к себе и говорит: «Отчего-де я тебе при выборе на царство не показался?»
— Так и спросил? — полюбопытствовала Софья и вся вспыхнула.
— Так и спросил, сказывают.
— А тот что?
— А тот и говорит: Иуда, говорит, за тридесять сребренников продал Христа будучи его учеником, а я-де твоим учеником никогда не бывал-то диво ли-де, что я тебя продал будучи мелким дворянином за боярство!
— Ишь к кому приравнял! Ко Христу! Пьяницу-то! — снова вспыхнула Софья.
В то время в дверях кельи показалась молоденькая черничка в черной монатейке, красиво оттенявшей белое личико с черными, воронова крыла волосами, заплетенными в две большие косы.
— Ты что, Веруша? — спросила ее царевна.
— От государыни царицы Евдокей Федоровны постельница прислана спросить о твоем здравии, — прощебетала хорошенькая сероглазая черничка.
— Добро, Веруша, кликни ее сюда, — отвечала царевна. — Ах, постой, постой, Веруша! — спохватилась она. — Подь сюда поближе.
Черничка проворно и с веселой улыбкой подошла к царевне. Та внимательно осмотрела ее с головы до ног.
— Это новая монатейка на мне, матушка-царевна, — прощебетала черничка, видимо, избалованная своею госпожой, — хорошо сидит?
— А повернись-ка, стрекоза, боком, — сказала Софья, — сидит хорошо.
— Чаю, и с боку хорошо, — сверкнула «стрекоза» своими белыми, как перламутр, зубами и повернулась.
— Хорошо-то оно хорошо, — сказала улыбаясь Софья, — да вот тут что-то неладно.
И царевна тронула девушку за живот.
— Охо-хо! Ты, кажись, много гороху наелась, вот тебе пузо и вспучило, — заметила она лукаво, ощупывая свою молоденькую постельницу.
Яркая краска мгновенно залила белые пухленькие щечки чернички.
— А! Каков горох — от! Уж не Демушка ли певчий накормил тебя этим горошком? — продолжала царевна, качая головой.
— Матушка, прости! — заливаясь слезами и падая на колени, заголосила Вера Васютинская (это была она, хорошенькая балованная «хохлуша»). — Ох, прости! Я люблю Демьяна!
— Добро, добро! После поговорим…
— Матушка! Я ненароком!
— Добро, добро…
XIII. Отчаянная попытка
Царевна Софья Алексеевна была отчасти права, хвастаясь перед Родимицей, что к Москве идут стрельцы, чтобы призвать ее на державство. Вот что случилось на другой день после того, как она говорила об этом со своей старой постельницей. Это было 17 июня 1698 года. Утро в этот день выдалось пасмурное. Западным ветром гнало по небу разорванные тяжелые свинцового цвета облака. Над свинцовою же поверхностью реки Истры под Воскресенским монастырем с пронзительным писком носились стрижи, вылетая из своих черненьких прорытых в береговых кручах нор с такою стремительностью, точно пули из ружейных дул. С сухим шелестом ветер нагибал прибрежные камыши и высокую рожь по ту сторону Истры, заставляя трепетать каждый лист осиновой рощи, под которою раскинулся в беспорядке стрелецкий табор. Слышалось ржание лошадей и беспорядочный говор. Утренний звон монастырского колокола ветром относило куда-то в сторону. В роще несколько раз принималась куковать кукушка и всякий раз на втором или третьем крике захлебывалась, точно давилась, и с хохотом перелетала на другое дерево.
В стрелецком таборе заметно было большое движение. Середи табора на телеге стоял седой огромного роста стрелец и, размахивая в воздухе бумагою, что-то кричал, но его, по-видимому, никто не слушал. Ветер разносил его слова и трепал седую длинную бороду, которая ярко, точно белая кудель, трепалась на груди по красному кафтану. Это был наш старый знакомый, великан Кирша, по фамилии Маслов, выдержавший и Чигиринские походы, и оба азовских, и потерявший под Азовом своего баловня, кудлатого Турку, ходившего вместе со стрельцами на штурм азовского вала и убитого осколком гранаты.
— Братцы! Аспиды! Да ты слушай, что царевна пишет! — кричал он во всю мочь.
— А для чего она на нас большой полк высылает? — кричали другие.
— Это не она, а потешные да немцы!
— А кто от царевны принес грамоту?
— Стрельчиха Дарья, а ей дала царевнина постельница.
— Слушай, братцы, грамоту! Аспиды!
— Да мы ее давно слышали, — возражали некоторые.
— Аспиды! — ругался Кирша. — А Аченаш (Отче наш) иже еси вы не ежеден в церкви слышите, а все он такой же Аченаш остается…
— Кирша дело говорит! Вычитывай, что она пишет!
— Слушай, братцы, слово царевнино!
— Слушай, дьяволы!
— Любо! Любо! Трезвонь, Кирша!
С трудом удалось угомонить круг, и Кирша начал читать послание Софьи.
— «Вестно мне учинилось, — разносился ветром его могучий голос по всему кругу, — что ваших полков стрельцов приходило к Москве малое число: и вам бы быть к Москве всем четырем полкам, и стать под Девичьим монастырем табаром, и бить челом мне иттить к Москве против прежнего на державство. А есть ли бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве пускать не стали, и с ними бы управиться, их побить и к Москве быть. А кто б не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой».
Настроение духа разом изменилось. На телегу вскочил главный заводчик десятник Зорин и тоже стал махать какою-то бумагою. Ветер трепал и его рыжую бороду.