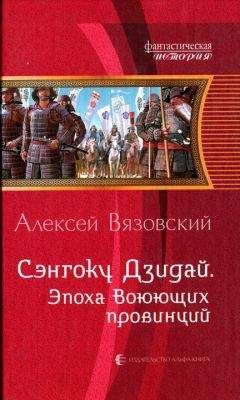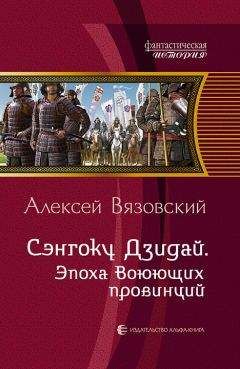Себастьян Барри - Скрижали судьбы
Недавно приходил врач. Ему не понравилась сыпь у меня на лице, и еще оказалось, что у меня и на спине такая же. По правде говоря, я что-то немного утомилась, и так ему и сказала.
Это как-то странно, потому что с приходом весны я сама обычно оживляюсь. Так и вижу, как вдоль аллеи полыхают нарциссы, и так мне хочется выйти наружу, поглядеть на них, помахать им приветственно старой своей рукой. Так долго они таятся в сырой, холодной земле, и затем вдруг — такая ослепительная радость. Так что странно это все как-то, я ему так и сказала.
А он еще сказал, что ему не нравится, как я дышу, а я говорю: ну, меня-то все устраивает, а он засмеялся и сказал:
— Нет, мне не нравятся какие-то непонятные хрипы у вас в груди, пропишу-ка я вам, пожалуй, антибиотики.
И тут он мне доложил настоящие новости. Сказал, что весь главный корпус уже расселили, и всего-то пациентов осталось — два крыла в моей части здания. Я спросила, расселили ли всех старушек, и он ответил: да, мол, расселили. Сказал, что им тяжко с ними пришлось, из-за пролежней и болей. Сказал, что я молодец, потому что все время двигаюсь и потому у меня нет пролежней. Я ответила, что, когда только поступила в Слайго, они у меня были и мне это не особо понравилось. Он ответил:
— Я знаю.
— А доктор Грен про эти перемены знает? — спросила я.
— Конечно, — ответил он. — Он всем и руководит.
— И что станется со старым зданием?
— Снесут со временем, — ответил он. — Ну, а вас, конечно, переведут в другое место, получше.
— Вот как, — сказала я.
Я вдруг так распереживалась, потому что все думала про эти страницы под полом. Как же мне незаметно забрать их и оставить при себе, если меня будут перевозить? И куда это меня повезут? Мысли так и крутились, будто вода, которую прилив обрушивал в промоину утеса на дальнем краю залива Слайго.
— Я думал, что доктор Грен вам обо всем рассказал, иначе я бы не стал ничего говорить. Волноваться вам не о чем.
— А что будет с деревом под окном и с нарциссами?
— С чем? — переспросил он. — Ой, я не знаю. Слушайте, давайте-ка с вами обо всем этом доктор Грен поговорит. Сами понимаете. Это его работа, а я тут, боюсь, немного не в свое дело вклинился, миссис Макналти.
Я слишком устала, чтобы снова объяснять, в миллионный раз за все эти шестьдесят с лишним лет, что никакая я не миссис Макналти. Что я никто и никому на самом деле не жена. Я всего-навсего Розанна Клир.
Глава двадцатая
Катастрофа. Мистер Уинн, врач, которого я попросил осмотреть Розанну, случайно выронил шило из мешка — проболтался насчет новой больницы. То есть я-то думал, что она все знает, что ей кто-то рассказал. Но если и рассказали, то в голове у нее это никак не отложилось. Надо было быть умнее, надо было ее подготовить. Тут надо учесть, что я и сам не знаю, смог бы я преподнести ей это все как-то по-другому. Больше всего она, кажется, расстроилась из-за того, что увезли всех лежачих старушек. Вообще-то мне и самому кажется, что переехали мы куда как быстрее, чем нам самим хотелось, но новое здание в Роскоммоне было практически сдано, и в газетах пошли жалобы, что оно, мол, так и будет простаивать без дела. Поэтому нам пришлось поднапрячься для финального рывка. Остались только отделение, где находится Розанна, и мужчины в западном крыле. Эти в основном разномастные стариканы в черных больничных костюмах. Грядущий переезд их тоже здорово расстраивает и, собственно, задерживается все как раз из-за того, что податься им некуда. Не можем же мы вывести их на дорогу и сказать: ну все, ребята, в добрый путь. Они обступают меня, будто стайка грачей, когда я выхожу во двор, куда они выходят покурить и потоптаться. Некоторые здорово помогли нам той ночью, когда был пожар, — они взваливали старушек на спины, тащили их вниз по бесконечным лестницам, просто чудеса творили, а потом шутили еще, что давненько не гуляли с девчонками и как, мол, здорово еще разок пройтись в фокстроте, и тому подобное. У большинства из них с головой все в порядке, они просто «осколки системы» — так их называют. Одного из них я хорошо знаю, он воевал в Конго в составе ирландской армии. На самом деле тут много бывших солдат. Наверное, нам бы пригодилось местечко вроде казарм Челси или Дома инвалидов в Париже. Кто захочет быть старым солдатом в Ирландии?
Розанна лежала вся в поту, когда я зашел к ней. Может, это и реакция на антибиотики, но мне думается, что это просто-напросто страх. Тут, может, и ужасное место в ужасном состоянии, но она такой же человек, как и все мы, и тут ее дом, храни ее Господь. Удивительно, но я застал там Джона Кейна, который все лопотал что-то — бол-бол-бол, как индюк, — бедняга, хоть я и настороженно к нему отношусь, но он, казалось, и вправду переживал, хоть он и старый разбойник, а то и похуже.
По правде говоря, меня и самого все это очень беспокоит, я замотался и вымотался, хотя все-таки очень хорошо, что у нас будет новое помещение, без дождевых разводов на стенах и прорех в крыше, которые никто так и не рискнул залатать, потому что, как мне сказали, там рушатся сами балки. Да, да, все здание — настоящая западня, но на его обветшание все бесстыдно закрывали глаза и не выделяли никаких средств, поэтому все, что нужно было ремонтировать, просто послали к черту. И неискушенному взгляду место это скорее всего и представляется обиталищем чертей. Но не взгляду Розанны.
Розанна немножко ожила, завидев меня, и попросила подать ей одну книгу со стола. Книга называлась Religio Medici — старый потрепанный томик, на который я частенько обращал внимание. Она сказала, что это была любимая книга ее отца — говорила ли она мне об этом? И я сказал, да, говорила вроде бы. Сказал, что вроде припоминаю, как она однажды показала мне, что там написано имя ее отца.
— Мне сто лет, — затем сказала она, — и я хочу, чтобы вы для меня кое-что сделали.
— Что же? — спросил я, дивясь тому, как храбро она справилась со своей паникой, если то была паника — ее голос снова звучал ровно, несмотря на то что дряхлое ее лицо так и пылало от этой чертовой сыпи. Казалось, будто она прыгнула через огромный костер и окунула голову в его жар.
— Я хочу, чтобы вы отдали ее моему ребенку, — сказала она. — Моему сыну.
— Вашему сыну? — спросил я. — А где ваш сын, Розанна?
— Не знаю, — ответила она, и взгляд у нее резко помутнел, будто вот-вот погаснет, но тут она снова будто рывком привела себя в сознание. — Не знаю. В Назарете.
— Назарет далеко отсюда, — сказал я, подыгрывая ей.
— Отдадите, доктор Грен?
— Отдам, отдам, — сказал я, точно зная, что не отдам, не смогу никому ее отдать, если учитывать то, что безжалостно сообщает отец Гонт в своем отчете.
Да и столько воды с тех пор утекло. Даже если ее ребенок и жив, то уж в любом случае давно состарился. Наверное, я мог бы ее спросить: вы убили своего ребенка? Наверное, я мог бы спросить ее об этом, если б и сам был столь же безумен. Нет, такой вопрос не задашь любезным тоном, даже профессиональным тоном его не задашь. Впрочем, она так и не дала мне никаких ответов. Ответов, которые могли бы переменить мое мнение о ее состоянии — с медицинской точки зрения.
Ох, вдруг такая усталость навалилась, такая усталость, будто все ее годы и даже больше того теперь были моими. Я устал от того, что не смог вытащить ее обратно к «жизни». Не смог. Я себя даже вытащить не смог.
— Я уверена, отдадите, — сказала она, пристально глядя на меня. — Надеюсь, по крайней мере.
И тут, довольно невпопад, она забрала у меня книгу, а затем снова вложила мне ее в руки, кивнув, будто бы говоря: уж постарайтесь отдать, постарайтесь.
Свидетельство Розанны, записанное ей самойЧто-то мне не очень хорошо, худо мне, но надо продолжать, потому что я как раз подошла к той части истории, которую мне непременно надо вам поведать.
Дорогой читатель, Боженька, доктор Грен, кем бы вы ни были.
Где бы вы ни были, я вручаю вам мою любовь.
Я ж теперь ангел. Шучу.
Бью на небесах тяжелыми крылами.
Быть может. Как думаете?
* * *Мне вспоминается страшная, мутная, темная февральская погода и самые тяжкие, самые ужасающие дни в моей жизни.
Тогда я была, наверное, месяце на седьмом. Но точно сказать не могу.
Я так располнела, что старое пальто уже могло скрыть моего «положения», когда я приходила в лавку в Страндхилле, хотя я выбиралась туда только по будням, в сумерках, перед самым закрытием, и тут зима была для меня спасением, темнело уже к четырем.
Из зеркала на дверце шкафа на меня смотрел белесый призрак женщины со странно удлинившимся лицом, словно бы под тяжестью живота я постепенно сползала вниз, как тающая статуя. Пупок торчал наружу, будто маленький нос, а волосы внизу живота, казалось, стали длиннее раза в два.