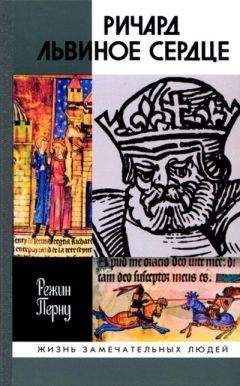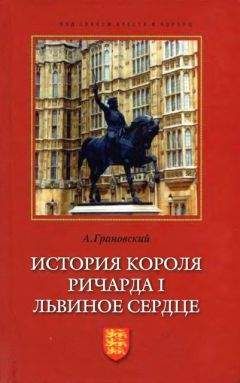Львиное сердце. Под стенами Акры - Пенман Шэрон
Филипп потратил немалые деньги на стенобитные машины и осадное снаряжение, нанял саперов, ведущих хитрый подкоп к стенам Акры. Но ночью не мог сомкнуть глаз и со своего прибытия спал плохо, терзаемый сомнениями в успехе этих усилий. В конце концов, разве не простояла Акра вот уже почти два года? Что, если осада затянется еще на многие месяцы? И даже если крепость удастся взять, то что из того? Неужели его одного терзают подобные сомнения? Многие верят, что победа будет гарантирована, стоит английскому королю добраться до Акры. Но для Филиппа это означало лишь то, что все заслуги припишут Ричарду. Ему ли не знать, как не любят Анжуйцы делиться славой. Филиппу виделось уже будущее, в котором его напрочь затмит другой человек. Идея, что король Франции окажется в тени одного из своих вассалов, была невыносимой.
С полудня его донимала головная боль, и хотя до заката было еще долго, Филипп решил прилечь. День не задался. Одна из осадных машин подверглась обстрелу «греческим огнем» и была уничтожена — по счастью, машина была не из его парка. Саперы тоже не порадовали короля — они наткнулись на пещеру, замедлившую продвижение к стенам. А еще огорчало, что попытки вернуть любимого сокола не дают результата. Хоть звероловство Филипп и не жаловал, но соколиную охоту находил успокаивающей. Он тренировал большую белую соколицу, когда та вдруг взяла и полетела в сторону города. Дав себе зарок возвратить любимицу, король предложил огромную награду в тысячу динаров. Но соколица оказалась в плену и была тайком вывезена из города — ее сочли достойной быть поднесенной в дар самому Саладину. Придворные рыцари Филиппа были удивлены силой огорчения господина. Они не понимали, что утрату птицы тот рассматривает как дурное предзнаменование, еще одно предвестие печальной судьбы этой несчастной, проклятой страны.
Было слишком душно, чтобы задергивать полог кровати, и Филипп слышал сквайров, расхаживающих по шатру. Входили рыцари, и когда их предупреждали, что король отдыхает, сразу понижали голос. Он ворочался, кряхтел и наконец забылся некрепким сном. И пробудился, когда один из оруженосцев с виноватым видом склонился над постелью.
— Прости, что беспокою, сир, но пришел маркиз Монферратский и говорит, что у него неотложное дело.
Филипп нахмурился, но досада его относилась к Конраду, а не к юнцу. Король поддержал маркиза, потому как тот был его кузеном, потому что верил в способность Конрада стать лучшим правителем, нежели Ги, этот законченный неудачник. А еще потому, что Ричард встал на сторону Ги. Но чем больше времени проводил он с маркизом, тем меньше тот ему нравился. Филипп пришел к выводу, что Конрад и Ги — две стороны одной монеты: оба надменные, вспыльчивые и жадные до славы.
Свесив ноги с кровати, король не удивился, что Конрад уже здесь — маркиз никогда не отличался понятием о приличиях.
— Ты не захворал, кузен? — Вопрос мог выражать озабоченность, но Филипп угадывал в нем упрек в том, что в такой ранний час он уже в постели.
— В чем дело, Конрад? — спросил король, дав знак сквайру принести сапоги и проследив за тем, чтобы юноша предварительно вытряхнул из них пауков, скорпионов или прочую пустынную нечисть.
— Жаль тревожить тебя, но мне подумалось, тебе стоит знать, что Ганнибал у ворот.
Филипп догадывался, что это какая-то историческая аллюзия, потому как смутно припоминал, что Ганнибал был врагом Рима. Зато Конрад славился не только подвигами на поле боя, но и своим красноречием. Маркиз свободно разговаривал на нескольких языках, щедро уснащал фразы латинскими эпиграммами, любил цитировать древнегреческих и римских поэтов. Этим он также напоминал Филиппу Ричарда, еще одного зазнайку, хвастающегося начитанностью и осведомленностью насчет давно сгинувших цивилизаций. Филипп подозревал, что оба намеренно пользуются своей выдающейся образованностью как хитрым средством выставить его дураком. Да, обучение его получилось недолгим, но став королем в пятнадцать, он едва ли мог выкроить много времени на латынь, раз все дни напролет приходилось уделять государственным делам. Француз никогда не сомневался, что умом и сообразительностью не уступит ни Ричарду, ни Конраду, а силой превосходит обоих, потому как обладал тем, чем Господь не наделил ни одного ни другого, — терпением.
Встав, король впился в маркиза холодным взглядом. Он верил, что Всевышний предначертал ему великие свершения, знал, что ему суждено возвратить Франции былую славу. Но почему тогда Господь не наделил его качествами, которые в избытке дал Конраду и Ричарду? Монферрат не был молод, лет сорока пяти, но по-прежнему мог похвастаться красотой; русые волосы скрывали проблески седины, а двигался он с легкостью человека, который раза в два моложе. Филипп был достаточно честен с собой, чтобы признать — не будь он сыном Людовика Капета, на него никто и не глянул бы. А вот Конрад или Ричард нигде не остались бы незамеченными. Королю думалось иногда, что апломб Монферрата берет начало в его телесной красоте, но потом отметал эту мысль. В конце концов, физическая оболочка Ги де Лузиньяна могла посостязаться с Конрадовой, вот только ядро оказалось пустым, и это предрешило судьбу его правления. Власть сама по себе столь же таинственное искусство, как алхимия — к этому умозаключению Филипп пришел много лет назад, когда сравнивал милосердного, слабовольного отца с ураганом, называемым Генрих Фиц-Эмпресс, и дал себе зарок не повторять ошибок родителя. Генрих не рассматривал его как серьезную угрозу, а когда очнулся, было уже слишком поздно. С Божьей помощью, этот маневр сработает и с его надменным и бесшабашным сыном.
— Кузен? — Конрад озадаченно смотрел на него, и Филипп вернулся к реальности.
Он знал, что ему следует дать ответ на загадочную реплику о Ганнибале, но не хотел признаваться, что смысл ее ускользает от него. Приняв от оруженосца меч в ножнах, он пристегивал и прилаживал его на бедре, когда слово взял Гийом де Барре, признавшийся, что не понимает замечания насчет Ганнибала у ворот. Конрад с удовольствием просветил его, пояснив, что это расхожая римская пословица, предупреждающая о близкой опасности, ведь Ганнибал был некогда самым опасным врагом Рима. Гийом вежливо поблагодарил маркиза.
Филипп ощутил прилив благодарности к рыцарю за своевременное вмешательство. Однако вид Гийома напомнил ему об обидах со стороны ненавистного Анжуйца, среди которых числилось постыдное обращение с де Барре в Мессине. Гийом не смел показаться при дворе своего государя до самого дня отплытия под Акру, и хотя сам он готов был простить Ричарда за мелочную вспышку, Филипп этой готовности не разделял.
— Хочешь сказать, что Ричард изволил наконец явиться? — спросил он.
— Его флот замечен у входа в гавань. — Конрад ухмыльнулся, выглядя весьма довольным собой. — И король едва ли в добром расположении духа, поскольку я отдал приказ не пускать его в Тир.
К этому времени шатер наполнился французскими сеньорами и рыцарями, включая кузена короля, молодого Матье де Монморанси, епископа Бове, а также маршала Обре Клемана. Бове громогласно расхохотался, но прочие пришли в ужас от такого оскорбления величества со стороны Конрада.
Филипп тоже не одобрял поступка маркиза. Ричард, в отличие от Ги, не самозванный король, а помазанникам Божьим следует оказывать должное уважение. Более того, поступок был без нужды провокационным и гарантировал враждебность Ричарда еще до встречи его с Конрадом. До этого неприятие им маркиза имело лишь политическую подоплеку. Теперь оно станет личным, очень личным. Удивляясь, как способны умные люди совершать подобные глупости, король бросил раздраженно:
— Ну, давайте покончим с этим.
Выйдя из шатра, они остановились в удивлении, потому как весь лагерь словно кипел. Люди потоком валили к гавани, спеша занять самые выгодные для наблюдения места. При войске обреталось немало лиц невоенных: солдатские жены и дети, проститутки, всегда вьющиеся вокруг армии как медведи вокруг меда, слуги, паломники, местные торговцы и разносчики. Теперь они все тоже пришли в движение, горя желанием наблюдать за прибытием английского короля.