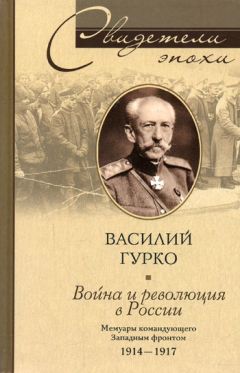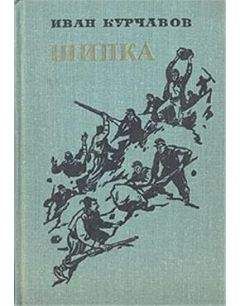Конн Иггульден - Гибель царей
Юлий кивнул. У него было что сказать командиру, но он предпочел промолчать. Светоний смотрел на молодого тессерария, криво ухмыляясь, и прижимал тряпку к пораненной щеке.
Юлий надеялся, что, когда Светонию станут зашивать рану, тому будет не до улыбок.
— Он задержался, спасая меня, центурион, — раздался чей-то голос.
Наместник пришел в себя и уже стоял, опираясь на плечи двух воинов. Кисти его рук покрылись синевой и раздулись.
Гадитик смотрел на грязную тогу Павла, покрытую пятнами крови. Глаза наместника были наполнены страданием, однако голос из разбитых губ звучал ровно и уверенно.
— Наместник Павел?.. — спросил Гадитик.
Павел кивнул, и центурион отсалютовал ему.
— Мы думали, господин, что ты погиб.
— Я тоже так считал… некоторое время.
Правитель поднял голову, слабо улыбнулся и произнес:
— Добро пожаловать в крепость Митилена, римляне.
Когда на пустой кухне Тубрук обнял Клодию, она заплакала.
— Не знаю, что мне делать, — рыдая, говорила женщина, уткнувшись в его тунику. — Он все время домогается ее.
— Тише… Идем.
Тубрук отстранил Клодию, стараясь унять тревогу, охватившую его при виде измученного, заплаканного лица. Он не слишком хорошо знал няньку Корнелии; обычно это была солидная, здравомыслящая женщина, не склонная расстраиваться по пустякам.
— Что случилось, дорогая? Давай присядем, и ты расскажешь мне все по порядку.
Он старался говорить спокойно, хотя сам сильно волновался. О боги, а если ребенок мертв? Что, если случится выкидыш? Он почувствовал, как холод подбирается к сердцу. Тубрук обещал Юлию, что присмотрит за Корнелией, пока его не будет в городе, и все вроде бы шло прекрасно. В последние месяцы Корнелия была немного замкнута, но многие молодые женщины пугаются страданий, неизбежных при родах.
Клодия позволила усадить себя на скамью возле очага. Она присела, даже не смахнув сор со скамейки, и это еще больше встревожило Тубрука. Он налил ей чашу яблочного сока, и Клодия стала пить, судорожно вздрагивая от рыданий.
— Расскажи мне, в чем беда, — попросил Тубрук. — Многие трудности можно преодолеть, даже если они кажутся неразрешимыми.
Он терпеливо ждал, пока она выпьет сок, потом осторожно принял от Клодии чашу.
— Это все Сулла, — сказала женщина. — Он мучает Корнелию. Она не хочет рассказывать подробностей, но его люди могут явиться за ней хоть днем, хоть ночью, и госпожа возвращается вся в слезах. А ведь она беременна!
Тубрук побледнел от гнева и схватил ее за плечи.
— Он сделал ей больно? Причинил вред ребенку?..
Клодия высвободилась из его рук.
— Еще нет, но с каждым разом дело все хуже. Она говорит, что Сулла постоянно пьян и… трогает ее, — произнесла она дрожащими губами.
Тубрук на секунду закрыл глаза, чтобы успокоиться. Его волнение выдавали только крепко сжатые кулаки, а когда он заговорил, в глазах появился пугающий огонь.
— Ее отец знает?
Клодия схватила Тубрука за руку.
— Цинна не должен знать! Это его убьет. Он обязательно выступит с обвинением в сенате и неминуемо погибнет! Нельзя сообщать ему!
Женщина говорила все громче, и Тубрук успокаивающе положил ладонь на ее руку.
— От меня он ничего не узнает.
— Мне больше не к кому обратиться с просьбой защитить Корнелию, кроме тебя, — потерянно проговорила Клодия, умоляюще глядя на Тубрука.
— Ты правильно сделала, дорогая. Она носит дитя этого дома. Я должен знать все, понимаешь? Ошибка здесь недопустима. Это очень важно, согласна?
Женщина кивнула и вытерла заплаканные глаза.
— Хорошо, — кивнул Тубрук. — Как диктатор Рима, Сулла пользуется почти полной неприкосновенностью. Можно обратиться с жалобой в сенат, но вряд ли кто поддержит выдвинутое обвинение. Это будет означать для жалобщика смертный приговор. Такое уж у нас «правосудие для всех». А было ли преступление? С точки зрения закона — нет, потому что если Сулла трогал и пугал ее, то только боги могут покарать негодяя.
Клодия снова кивнула.
— Я понимаю…
— Любое наше действие против Суллы — нарушение закона, а если кто-то отважится совершить покушение на диктатора, то это будет означать смерть для Цинны, тебя, меня, матери Юлия, слуг, рабов, Корнелии и ребенка — для всех. А Юлия выследят, куда бы он ни направился.
— Ты убьешь Суллу? — выдохнула женщина, заглядывая Тубруку в глаза.
— Если все, что ты мне рассказала, правда, то я, само собой, убью его, — твердо пообещал он, и Клодия вновь увидела перед собой гладиатора, угрюмого и пугающего.
— Он этого заслуживает. Корнелия сможет спокойно доносить ребенка до родов.
Женщина вытерла глаза и заметно успокоилась.
— Она знает, что ты пошла ко мне? — спокойно спросил Тубрук. Клодия отрицательно покачала головой. — Хорошо. Ничего ей не говори. Ни к чему такие страхи накануне родов.
— А потом?..
Тубрук задумчиво почесал коротко стриженный затылок.
— Никогда. Пусть она думает, что это сделал один из его врагов. Их ведь предостаточно… Храни тайну, Клодия. У диктатора есть приверженцы, которые даже спустя годы могут потребовать плату за кровь — если, конечно, правда выйдет наружу. Одно неосторожное слово, поведанное другу, который передаст все приятелю, — и у ваших дверей появится стража. Корнелию и ребенка заберут и подвергнут пыткам.
— Я не скажу, — прошептала Клодия, глядя Тубруку в глаза.
Потом отвела взгляд.
Тубрук вздохнул.
— Теперь расскажи все с самого начала, ничего не пропуская. Беременные часто воображают невесть что. Прежде чем рисковать всем, что мне дорого, я должен быть полностью уверен.
Еще целый час они сидели рядом, негромко и спокойно обсуждая страшные вещи. Ладонь Клодии лежала в руке Тубрука, как знак искренней привязанности.
— Я рассчитывал выйти в море со следующим приливом, а не устраивать здесь парад, — сердито сказал Гадитик.
— Тогда считайте, что я труп, — возразил наместник Павел. — Я весь избит, но жив и знаю, как важно показать поддержку Рима. Это заставит задуматься… тех, кто покушался на мое достоинство.
— Господин, все бунтовщики, находившиеся на острове, полегли в крепости — вместе с теми, кто прибыл поддержать мятеж с материка. Половина здешних семейств оплакивают сыновей или отцов. Мы им уже показали, какие последствия будет иметь неповиновение Риму. Они не посмеют бунтовать снова.
— Вы так думаете? — спросил Павел, криво улыбнувшись. — Плохо же вы знаете этих людей. С тех пор как Афины стали центром мира, они непрерывно сражаются с завоевателями. Теперь сюда пришел Рим, и они борются снова. У погибших остались сыновья, и очень скоро они смогут взять в руки оружие. Этой провинцией трудно управлять.
Дисциплинированность не позволила Гадитику продолжать спор. Он очень хотел побыстрее выйти на «Ястребе» в море, однако Павел просил и даже требовал, чтобы ему оставили четверых легионеров в качестве личной охраны. Гадитик собрался было возмутиться, однако несколько ветеранов вызвались добровольцами, предпочтя охоте за пиратами сравнительно привольное житье.
— Не забывайте, что случилось с его последними телохранителями, — предупредил Гадитик, но бывшие легионеры не испугались — от погребального костра, на котором горели тела мятежников, валил жирный черный дым, видимый на много миль вокруг. Прожив здесь несколько лет, они уйдут в отставку.
Гадитик выругался про себя. Похоже, до конца года придется обходиться сильно сократившимся экипажем. Ветераны, которых привел на галеру Цезарь, не смогут быстро оправиться от ран. В ближайшем порту от части раненых придется избавиться — через некоторое время их заберет какой-нибудь торговый корабль, возвращающийся в Рим. В Митилене центурия потеряла треть личного состава. Следует повысить в званиях особо отличившихся, но кем заменить двадцать семь погибших солдат, четырнадцать из которых были опытными гастатами, прослужившими на «Ястребе» более десяти лет?
Гадитик вздохнул. Хорошие воины сложили головы из-за кучки молодых сорвиголов, пожелавших возродить былую славу прадедов. Можно представить себе, о чем они мечтали, однако правда заключалась в том, что именно Рим принес им цивилизацию и понимание того, чего способно добиться сообщество людей. За что боролись мятежники? За право жить в жалких лачугах, почесывая грязные задницы? Рим не ждал от них благодарности. Он существовал уже достаточно долго, видел слишком многое — и требовал от покоренных уважения, а плохо подготовленный бунт на острове говорил о том, что ни о каком уважении к Риму не может быть и речи.
На рассвете легионеры сожгли трупы восьмидесяти девяти повстанцев. Тела погибших римлян унесли на галеру, чтобы похоронить их в море с воинскими почестями.