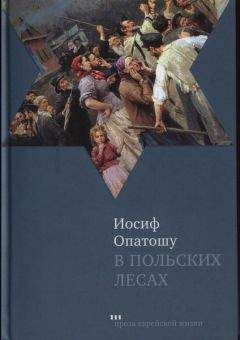Иосиф Опатошу - 1863
Германия, Австрия, Польша — одно государство за другим подходило к Гессу. Они беседовали: выказывали неудовлетворение заменой немецкой философии на английскую экономику, полагали, что чем больше разгорается пожар, тем больше народов оказываются охваченными его огнем, помогали Гессу вершить суд над старым мироустройством.
Пожилой человек в черном пиджаке с медалью на лацкане появился у стола и изящно поклонился.
— Что это вы так нарядились, пане Люблинер? — спросил Кагане.
— Мы только что провели собрание, — отозвался из-за плеча Люблинера шустрый человечек со странно неровным лицом, словно небрежно вылепленным из глины. — Пан Люблинер взял публику штурмом, ему так аплодировали. Шутка ли! Как говорит пан Люблинер, мир сегодня находится в руках у Людвиков: Людвика Бонапарта[24], Людвика Кошута[25], Людвика Мерославского и Людвика Люблинера.
Люблинер покручивал густые седые усы, в которых заблудилась довольная улыбка, и поглядывал на свою бледную руку, на которой красовалось новое обручальное кольцо. Он вручил Гессу воззвание к польским евреям и заговорил, мешая немецкие и французские фразы:
— Там, в Польше, воюют, а мы здесь играем в политику. В тридцать первом году я не таскался по парижским кофейням, а участвовал в стачках под Варшавой… Они меня не пускают, молодежь меня не пускает. Утверждают, что я здесь самая влиятельная фигура!
— Конечно, конечно! — Человечек запустил руки в жесткие, непохожие на еврейские, волосы, которые не лежали и не стояли, а росли словно метелки. — Спросите меня, как долго я сражался под Маковом? — Он придвинулся к столику. — Давайте не будем себя обманывать, нечего Люблинеру там делать! Разве что из него получится плохой офицер! По сравнению с русскими все мы плохие солдаты, и что же? Воодушевление руководит нами, или, как вы называете это здесь, — идея…
— Да, да! — улыбнулся Люблинер. — Блум работает, гуляет целыми днями у отеля «Ламбер» на рю Кордье…
— Он живет за счет князя Чарторыйского и Национального комитета, — отозвался доктор Беньовский — мужчина ростом шесть футов, одетый как казацкий атаман. — Блум состоит в обеих партиях: он и белый, и красный[27].
— То, что я снабжал всех польских офицеров вином в Маковом, не вспоминает никто. И то, что мне пришлось бежать из Польши, бросить семью, винный погребок, именье. — Блум говорил словно в пустоту, и было непонятно, что в его глазах — улыбка или гнев. — А вы, доктор, порочите мое имя. Я не получил никакой поддержки от Чарторыйского, хотя был постоянным членом Национального комитета. Вы думаете, что я Вроблевский или Сикорский? Нет, Блум всегда был красным!
— Так почему же теперь вы здесь, в Париже, господин Блум? — отозвалась Сибилла. — Почему вы не едете домой воевать?
Блум подскочил к мадам Гесс, забыв, о чем он только что говорил, и затараторил:
— Почему я не еду? Я поеду первым же поездом, мадам Гесс. Что? Оставаться здесь, ходить каждый день в комитет и ждать пособия? Это не для меня, не для Блума… Блум проливал кровь за Польшу и готов делать это и дальше…
— Браво, Блум! — Люблинер похлопал его по плечу. — Все мы свидетели, я ловлю тебя на слове, поедешь в первом отряде!
— Слова Блума достаточно, пане Люблинер. Не нужно свидетелей! А кто, по-вашему, выгнал казаков из Макова? Спросите Сикорского. Я, Блум, выгнал их! — Ободренный вниманием публики, он перегнулся через стол и налил себе вина. — А ведь это вино нельзя пить, пане Кагане, но не страшно… Да здравствует свободная Польша! Лехаим!
— Чудак этот господин Блум! — отозвался Гесс.
— От такого лучше держаться подальше! — сказала Сибилла.
— Он не опасен! — вступил в разговор Мордхе. — Его патриотизм заключается в том, что он раздавал польским офицерам вино бесплатно. В этом его заслуга перед Польшей. Должно быть, он скучает по дому и поэтому принимает помощь от обеих партий. Он и красный, и белый, и таких много. Так теперь зарабатывают в Птит-Полонь[28].
Гесс заметил Мордхе и отодвинулся от Сибиллы, освобождая ему место:
— Садитесь поближе, господин Алтер! Знать бы мне раньше, что вы родом из хасидской семьи! Я совсем не согласен со своим другом Грецом[29], совсем не согласен. Я считаю, что в славянских странах только хасидизм способен пробудить народные массы, если они не собираются отдаляться от иудаизма, как реформисты. А правда ли, господин Алтер, что хасиды отчасти живут в социализме? Они друг с другом на «ты»? Как же можно говорить о дикости людей, обладающих такой моралью и духовными ценностями?
Гесс не стал ждать ответа Мордхе, он прислушался к речи подошедшего знакомого и вдруг повернулся к Сибилле:
— Ты знаешь господина Алтера?
— Да-да, конечно, — улыбнулась Сибилла. — Почему вас так редко видно, господин Алтер? Кагане все время о вас рассказывает. Заходите как-нибудь.
— Что обо мне рассказывать, мадам? Таких, как я, тысячи.
— Теперь, в смутное время, господин Алтер, начинаешь тосковать по настоящему человеку.
— Что вы имеете в виду, мадам?
— Мы живем в коммуне, где люди уже многого добились: у них все общее — жилье, еда. Кажется, что они достигли равенства, и в то же время они так далеки друг от друга, их разделяют целые миры. Возьмите Гесса или Бакунина, возьмите религиозного Шодну, мистика Пьера-Мишеля — это институции, системы, может быть, легенды, но ни в коем случае не люди, собирающиеся жить вместе. Вы улыбаетесь, господин Алтер, а я говорю вам, что, когда начинаешь думать о нациях, перестаешь быть человеком.
Сибилла раскраснелась от собственных слов. Ее красивые глаза прищурились. Так может щуриться человек, которому есть что скрывать. Такие люди никогда не бывают уверены в себе и всю жизнь живут вприщур. Сибилла с опаской оглянулась, не подслушивают ли ее, и шепнула Мордхе на ухо:
— Вы долго проработали на Сене?
— Два месяца.
— Как вас приняли? Я имею в виду в подполье?
— Сначала — враждебно, как чужака. Затем, когда я всыпал одному как следует, меня приняли за своего.
— У них свои законы.
Люблинер подсел к Гессу:
— Что скажете о моем воззвании?
— Я не еврей, но стыжусь вашего воззвания! — отозвался Беньовский.
— О чем вы? — Люблинер привстал и снова сел.
— Вы, пане Люблинер, за тридцать лет, прошедших после первого восстания, так ничему и не научились! — сказал Беньовский уверенным тоном, его глаза смотрели решительно. — Ведь ваш друг Лелевель[29] уже в тридцатых годах обратился с манифестом к евреям, где он говорит не только о гражданских правах, но и обещает, что поляки помогут евреям вернуть Палестину, а теперь, тридцать лет спустя, появляетесь вы со старой песней и уверяете своих братьев, что они смогут работать у помещика. Мое воззвание к евреям пришлось шляхте не по душе, хотя во мне больше польской крови, чем в вас и Лелевеле, вместе взятых. И та же шляхта в страхе, как бы польская душа не объевреилась, предпочла ваше воззвание. Они хотят, чтобы евреи были преданы Польше телом и душой, и при этом постоянно задирают Лешневского в «Варшавской газете», а беззубая собака лает: хватайте жидов за полы лапсердаков!
— А вы, пане Люблинер, все еще верите в ассимиляцию? — спросил Кагане.
— Если бы я не верил, пане Кагане, я бы не сидел в Национальном комитете и не оставил бы свою успешную практику. Ведь вам известно, что я адвокат.
— Сижу я себе в Национальном комитете и не верю в ассимиляцию! — сыронизировал Кагане.
— Это преступление со стороны поляков, что они вас к себе приняли!
— Уверяю, пане Люблинер, что вас не спасет даже справка о крещении!
— О чем вы, пане Кагане? Польша не Германия! Польша никогда не стремилась обратить евреев в христианство, в Польше у них всегда была свобода вероисповедания…
Гесс почти не участвовал в разговоре, он сидел и хитро улыбался, уверенный, что его ученики с легкостью переспорят Люблинера.
Мордхе искоса посматривал на Беньовского. Ему был симпатичен бывший казачий офицер, перешедший на сторону поляков в сражении под Остроленкой[30] и воевавший за освобождение Польши. За границей Беньовский выучил идиш и пропагандировал идею создания еврейской армии, призванной отвоевать Землю Израиля. Мордхе видел в Беньовском еврея. Он был согласен с Гессом, что в каждой нации попадаются индивиды греческого и еврейского типа, а пространство для грека имеет то же значение, что для еврея — время.
— Я согласен с Гессом, — перебил Кагане Люблинера, — еврейскую веру ненавидят меньше, чем еврейский народ. И пока еврейские кудри не распрямятся, а носы не станут короче, ненависть к евреям не исчезнет. Пока евреи не изменятся, пане Люблинер, нет никакого смысла в вашей работе!