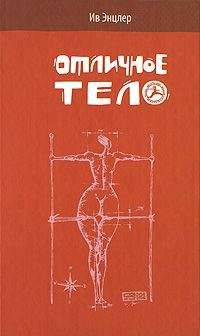Ирина Горская - Андрей Ярославич
Пламя в ее глазах металось. Но и стоящего рядом она видела; в его темные глубокие глаза— до донышка не доглядишься, его убор высокий — войлочная шапка наподобие шлема и обтянута красным шелком, и понизу — венец золотой, саженный золотыми с эмалью узорам, будто резными изображениями башенок; на шее ожерелья и оплечья золоченые с цветными камнями, и маленькие округлые пряжечки с человеческими ликами свешиваются, чуть перезвякиваются; она уже знала то изображения святых служителей ее новой веры…
Отвели ее в горницу, где она сидела в своем тяжелом наряде. Во дворе запивали говядину и пироги пивом, сыченым медом, снова играла дуда, топали ноги в пляске и пелись песни.
Покрыв ей голову толстым покрывалом, повели ее в ее терем. Большая постель разложена была на деревянном помосте. Прислужницы раздели ее до одной рубахи, усадили на постель, оставили. Две свечи в подсвечниках высоких поставлены были. Он вошел тоже в одной рубахе брачной. Был он, как бог молний и грома, темноликий, темные блескучие глаза огромные, волосы темные прямые, борода острая.
Тогда, у реки (а как давно было!), она знала, что в их соитии брачном — ее месть ему и всему его роду, она ясно знала. После, пока убирали к свадьбе, она бессмысленным существом была. Но теперь вся она — и тело, и сердце, и мысли — все противилось ему. И от этой страшной супротивности вся, она вдруг напряженно обмерла и почувствовала, как холодеет больно. Это была смерть, но не было страшно. Лучше смерть, лишь бы он не сделался близок с ней…
Он сидел на краю постели, чуть свесив просто босые ноги, и смотрел на простертую красавицу, холодную, ледяную. Руки ее он уложил вдоль тела, прекрасная грудь замерла каменно.
Его тяготение к ней было таким страшным, и потому не было в нем торопливости. Кончиком пальца он касался изгиба холодных розовых губ, осторожно трогал длинную прядь распущенных светлых волос. И от этого одного делалось мучительно и сладко, до содроганий.
И три дня она лежала. Напрасно пытались оживить ее, напрасно подносили к лицу травы и жгли их в горнице и лили на лицо настои травяные. Жених, не сделавшийся мужем, смотрел без печали и будто и с любопытством странным. Она была и жива и словно бы мертва.
— Надо ехать за старухой Сюмерьге! — сказал Пуреш.
Запрягли в телегу семь лошадей одну за другой, упряжь медными бубенцами увешали. Сами служители богини Анге в своих уборах из перьев сели в телегу. Следом обережные поскакали на приземистых местных коньках. Поехали привезти великую ведунью, старуху Сюмерьге.
Еще четыре дня миновало. И вот на седьмой день воротились. Из телеги на руках снесли с большим бережением странное существо — то ли старую скрюченную женщину, то ли птицу длинноклювую; и лицо длинными темными волосами поросло; острыми звездочками глаза сверкают.
Внесли ведунью в горницу брачную. В наряде лоскутном стала над брачной постелью. Темными узловатыми лапами взяла красавицу за белые руки.
— Я ведунья, а ты пуще меня колдунья! Ступай за судьбою своей, прощайся с прежней жизнью девичьей…
Приговаривала громким, неожиданно ясным голосом.
Девушка открыла глаза. Не было слабости, бодрость чувствовала. Не думала ни об упрямстве, ни о мести, одна лишь бодрая готовность перенести свою судьбу оставалась.
Во дворе обряжали старухин поезд, грузили дары…
Он заключил ее в объятия, и уже и не было мучительно, а только странно. Говорил певуче, на непонятном своем языке.
— О, как я люблю тебя! Зачем я так люблю тебя?! — говорил.
Не было страшно и супротивно…
Он приставил к ней девушку, дочь своего приближенного. Девушка милой была, и видно было, что восхищается ее красотой. Стали друг у дружки учиться говорить.
Анка и вправду искренне восхищалась госпожой. Такая была странная красавица и будто чуждая всему земному. Случалось прежде Анке слышать жалобы прислужниц княгини Феодосии; та бывала гневлива, могла и ударить; глядела, чтобы волосы убраны были под шапку шелковую гладко, а пятно углядит на платье нарядном — достанется всем и пощечин и щипков. И была княгиня обычной женщиной, хотела красивой быть; опасалась, не старится ли; оставляла гордость и расспрашивала о разных разностях женских, говорила с боярынями и прислужницами, дивилась, а то и судила.
А эта красавица неземная была. Обронит словечко, улыбается смутно, в глазах голубых золотистый живой свет… И отчего-то жаль было ее…
Лето пошло на самый разгар. Девушки надели белые платья к сенокосу. Поднялись высокие травы. Сладкий медвяный дух понесся над покосами.
Теперь, в медовом дыхании трав, ему казалось, будто и она пробуждается и чувствует его любовь. Но, быть может, лишь казалось? И он знал, что справился с собою. Пусть остается эта боль в душе, пусть саднит, не отпускает, но он все свершил, как задумывал, и вернется к жизни обычной, которая есть истинная жизнь; а то нынешнее, что с ним сотворилось, — медвяный странный сон…
Пробудился.
Вести дошли плохие. Голод, мор и пожары в Новгороде Великом. Слава Богу, сыновей его успели верные сановники спасти, увезли в Переяславль. Немецкие купцы кораблями хлеб везут в Новгород. А не любят князья дружбы этой новгородской с немцами. Послов к Михаилу Черниговскому новгородцы посылали… Возвращаться надо к жизни своей… Самому во все входить…
Она спокойно, все с тою же улыбкой неземной приняла его отъезд. И будто задумчива была странно. А думала о чем? Бог весть!..
Но были трое, которым солоно его отъезд пришелся. Яков Первой, Михаил и Анка.
Перед самым отъездом побратался он с Пурешем, взял с него клятву беречь Анастасию и оказывать ей все положенные княжеские почести, а если родится дитя, известить немедля! И обратился к Якову, сказал, что жалует его дочь ближней милостницей княгине меньшой Анастасии. Яков покорно поклонился. Анка поняла, что оставляют её в мордовском городце, и слезы покатились из глаз. И будто чутье какое заставило Михаила поднять взгляд на Пурешева сына. И увидел довольство на его лице. Но неужели князь ради того и оставил Анку? Будто подачку кинул, чтобы забыл сын Пурешев, разумный малый, унижение свое… А если так…
Но в характере Михаила и его старшего друга Якова было сильно то чувство безоглядного самоотвержения, что и создает вернейших слуг, преданных, развиваясь, разрастаясь в душе. И слуга такой — не судья господину и преданности неколебимой. И в душе юной Анки уже разгоралось то чувство, прежде вовсе неведомое ей. И поглощенная новым трепетным чувством служения, она уже и не замечала, как глядит на нее молодой сын Пуреша. Вся была в своем желании трепетного бережения госпоже, такой странной, неземной. И если бы не было такое грехом, называла бы ее святой. И гордилась своим служением ей…
Миновало восемь месяцев. И были посланы от Пуреша к Феодору-Ярославу в город его Переяславль-Залесский гонцы-послы с вестью о рождении сына. В самую середку второго месяца весны он родился и, стало быть, зачат был в самый сенокос, когда медвяные высокие травы падают под лезвиями острыми. Послы не вдруг добрались. И еще почти три месяца прошло, пока вернулись они и привезли дары — золото и серебро. Князь признавал рожденного сыном, а вовсе не всех своих детей, кроме детей от супруги венчанной, он признавал. Целое посольство прибыло от Ярослава в городец Пуреша. Священник, боярин — крестный отец и боярыня — крестная мать и слуги и прислужницы. Младенец был здоровым и крепким, и следовало бы его крестить по правилу — в церкви. Но церкви не было ни в городце, ни в окрестностях. Потому крестили в особой горнице. Надели крестик золотой присланный. И всю свою жизнь с этим крестильным крестом не расставался. Князь-отец передал священнику свое пожелание, и священник то пожелание исполнил — крещение было в день святого Андрея Критского, чей канон покаянный читается Великим постом. И тот же день — день благоверного князя Андрея Боголюбского, убиенного своими слугами. И младенцу наречено было имя — Андрей. И правду сказать, более об Андрее Боголюбском, нежели о святом Андрее Критском, думалось князю Ярославу. Родным старшим братом приходился Андрей Юрьевич его отцу Димитрию-Всеволоду. Но были они от разных матерей: от половецкой княжны — Андрей, от византийской царевны — Димитрий. И по смерти отца Андрей изгнал Димитрия на родину матери, в Константинополь, откуда вернулся Димитрий уже возрастным. Казалось, не за что Ярославу чтить память об Андрее, гонителе его отца, но почитал он Андрея за его деяния; так радел Андрей об украшении стольного града Владимира, как, пожалуй, один лишь Ярослав Мудрый о Киеве радел. И говаривал Феодор-Ярослав ближним людям, поминая об Андрее Юрьевиче и предке-тезке, что на походы боевые достанет всякого князя, а вот украшать город княжий не всякому правителю дано…
Но не одну лишь весть о рождении сына получил князь Феодор-Ярослав; и другую весть привезли ему. И Другая эта весть не опечалила его, но странным образом облегчила, его, душу. А весть эта была о том, что после рождения тотчас лишился рожденный матери.