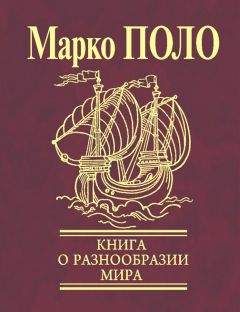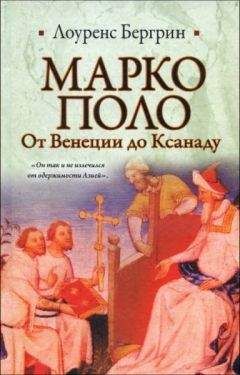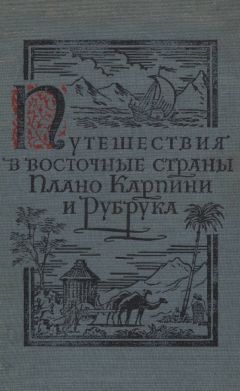Ежи Анджеевский - Мрак покрывает землю
— Нет, отче, не гордыня это! Ты ведь не знаешь меня.
И мысли мои не ведомы тебе.
— Ты уверен в этом?
— Не знаю, отче. Может, мои мысли тебе известны, и ты знаешь, что происходит у меня в душе. Я думал: здесь нет никого, и хотел молиться. Я впервые вижу тебя и не знаю, кто ты. Но когда ты вот так стоишь передо мной, и, кроме нас двоих, здесь никого нет, мне сдается, я знаю тебя давно, с тех пор, как помню себя. Почему ты так смотришь на меня? Ты ведь убедился: я здоров, у меня нет жара. Знаешь, отче, о чем я хотел молиться? Может, ты и об этом догадываешься? Но все равно позволь мне сказать: ты поймешь меня, — у тебя лицо человека, который все понимает. Наверно, поэтому я чувствую себя в твоем присутствии так, будто давно, с первых дней жизни, знаю тебя. Я хотел просить Бога смилостивиться над теми, кто данную им власть употребляет не во благо, а во зло людям, обрекая их на страшные муки и страдания. Боже всемогущий и милосердный, иже еси на небесех, — хотел я молиться, — помилуй тех, кто попирает справедливость, злонамеренно клевещет, обвиняет в несодеянном, судит неправедным судом. Смилуйся над теми, кто в ослеплении ненавистью лишает людей покоя, сеет семена вражды и страха, понуждает ближних своих к криводушию, не обрушивай на мучителей карающую длань свою, пощади злодеев… Вот о чем вознамерился я просить Бога. Но не смог. Не сумел заставить себя — не захотел! Слова застряли в горле. Произнесенные вслух они звучат как осуждение, как проклятье, и когда я пытался молиться, каждое слово было, словно тяжелый камень. Такая молитва неугодна Богу, отче.
Торквемада застыл в неподвижности.
— Скажи, брат Дьего, — помолчав, сказал он, — кто эти люди, за которых ты хотел молиться, которые в твоем представлении повинны в таких чудовищных преступлениях?
Фра Дьего прижал к груди стиснутые руки.
— Отче! — Он рванул на себе сутану. — Эта одежда жжет меня, я задыхаюсь в ней.
— Брат Дьего!
— Она душит меня, потому что осквернена людьми, которые ее носят!
— Брат Дьего, я тоже ношу ее.
— И она тебя не душит, — никогда не душила? Скажи, тебя не мучает совесть, что люди в этих самых одеждах…
Торквемада высунул руку из-под плаща и решительным жестом отстранил от себя Дьего.
— Молчи! Ты понимаешь, несчастный, что говоришь? Знаешь, кто я?
Фра Дьего, как в полусне, посмотрел на старика блуждающим взглядом.
— Кто ты, не ведаю, но знаю тебя давно.
— Брат Дьего, — тихо, проникновенным голосом сказал тот, — я — брат Томас Торквемада.
Дьего горько усмехнулся.
— Зачем ты шутишь надо мной? Хочешь испытать меня! Но мне не ведом страх, отче! И окажись сейчас на твоем месте падре Торквемада, я не отрекусь ни от одного своего слова. Ненависть во мне сильней страха. Я ничего не боюсь, отче.
— Опомнись, брат Дьего! — зловещим полушепотом сказал Торквемада. — Ты стоишь перед Великим инквизитором.
Наступила тишина. Дьего напряженно всматривался в Торквемаду. Потом поднес руку ко лбу и ощутил пальцами холодный пот.
— Боже, — прошептал он.
И шагнул в глубь часовни, задел ногой подсвечник, стоявший сбоку алтаря. Лицо у него исказилось, губы задрожали. Вдруг, быстро нагнувшись, он схватил массивный четырехраменный подсвечник и замахнулся на Торквемаду. Но не ударил. Тяжело дыша, с перекошенным ненавистью лицом, он застыл, подняв над головой руку, обезоруженный спокойствием и молчанием старца, — тот даже не шевельнулся, не сделал ни малейшей попытки защититься. От его неподвижной фигуры исходила такая могучая, несокрушимая сила, что Дьего закрыл глаза, и рука его, все еще занесенная для удара, разжалась, — подсвечник упал и, ударяясь о каменные ступени алтаря, с грохотом покатился к ногам Торквемады. В темноте глухим стоном прокатилось эхо, и один звук, особенно громкий, многократно повторяясь, гулко отзывался откуда-то сверху, из-под самого купола, потом внезапно все смолкло и воцарилась глухая, цепенящая тишина.
Дьего открыл глаза.
— Отче, почему вы не призываете стражников? — высоким, по-юношески звонким голосом спросил он. — Поступайте, как всегда в таких случаях.
Торквемада отвернулся и, раздвинув полы плаща, опустился на колени перед алтарем.
— Сын мой, — прошептал он, — встань со мной рядом.
Дьего некоторое время стоял молча, потом стремительно повернулся к Торквемаде и опустился на колени на расстоянии вытянутой руки от него. Лампада в глубине алтаря отбрасывала на обоих коленопреклоненных мерцающий свет.
Торквемада молитвенно сложил руки.
— Повторяй, сын мой: «Отче наш, иже еси на небесех…»
Дьего поднял кверху глаза, но в темноте нельзя было различить свисавшие по бокам алтаря длинные, желтоватого цвета мантеты[12] на которых днем можно было прочесть имена и преступления осужденных священным трибуналом. Сейчас неясные очертания этих зловещих полотнищ лишь смутно рисовались в глубине алтаря.
— «Отче наш, иже еси на небесех», — повторил он высоким, звонким голосом.
— «Да святится имя Твое».
— «Да святится имя Твое».
— «Да приидет Царствие Твое».
Ком подступил к горлу Дьего, и под опущенными веками закипали слезы.
— «Да приидет Царствие Твое», — повторил он тихо, чтобы не выдать дрожи в голосе.
— «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», — совсем тихо повторил Дьего.
Он чувствовал, что не справится с охватившим его волнением и при следующих словах расплачется. Но преподобный отец перестал молиться. Припав головой к молитвенно сложенным рукам, он молчал, словно забыл о монахе, стоявшем рядом на коленях.
Вдалеке снова раздался звон бодрствующего в ночи колокола кармелитского монастыря. Торквемада поднял голову.
— Аминь! — произнес он громким, проникновенным голосом. — Брат Дьего!
— Слушаю, милостливый господин.
— Ступай к себе, сын мой. Скоро начнет светать, а завтра, я полагаю, тебя ждет тяжелый день.
— Хоть бы он стал последним! — воскликнул Дьего.
— Каждый человек хозяин и одновременно раб своей судьбы, — сказал Торквемада. — Иди в свою келью и requiescere in pace,[13] пока не получишь новых распоряжений от старшей братии.
Ночь была на исходе, когда фра Дьего проходил монастырским двором; начинало светать, и на небе, поголубевшем на востоке, гасли звезды. В воздухе висел серый предрассветный туман, и в этот последний ночной час холод был особенно пронизывающий.
В тени галереи стоял человек. Дьего приостановился, потом подошел ближе.
— Это ты, Матео?
— Я, — ответил тот. — Ты откуда идешь? Из собора?
— Да.
— Боже милостивый! Ты видел его?
— О ком ты говоришь? Я видел дьявола.
— Дьего!
— Он одолел меня на этот раз. Я молился вместе с ним.
Фра Матео схватил его за руку.
— Дьего, мой маленький Дьего! Я проснулся ночью и пошел к тебе в келью, — она была пуста. В переходе мне заступил дорогу молодой рыцарь из его стражи и спрашивает: «Вы куда, преподобный брат?» — «В собор», — отвечаю. Он дотронулся до моего плеча и сказал: «Сейчас ночь, преподобный брат, не мешайте досточтимому отцу предаваться в одиночестве размышлениям». И я ждал тебя здесь, Дьего. Очень долго ждал.
Дьего поднял голову.
— Зачем?
— Я боялся за тебя. Почему ты хочешь погубить себя? Ты молился с ним? Что это значит?
— Ничего не значит, — сказал Дьего, глядя в темноту, сгустившуюся под низкими сводами.
— Как это «ничего»?
— Сначала я хотел его убить, а потом читал с ним «Отче наш».
Фра Матео вздрогнул.
— Дьего, что ты наделал? Зачем ты добровольно отдаешься в руки врагов?
Дьего пожал плечами.
— Не знаю. А что тут, собственно, такого? Спасения все равно нет. Можно или лишиться рассудка, или добровольно пойти на смерть. Другого выхода нет.
— Есть Бог!
Дьего отнял у него руку.
— Прощай, Матео! Я устал и хочу спать. «Requiescere in pace», как сказал досточтимый отец.
— Дьего!
Тот остановился у двери в монастырские покои.
— Я любил тебя, как никого на свете, за чистую твою душу.
— Почему ты говоришь: «Любил»?
— Дьего, что бы ни случилось, умоляю тебя, сохрани незапятнанной свою совесть.
— Что это значит?
— Что?
— Совесть.
— Будь собой.
— И это все?
— Да, все!
— Все значит — ничего. Человек остается собой, делая одно и поступая прямо противоположно. А у страха есть совесть?
— Дьего, сколько бы правду ни искажали, ни преследовали, она не перестает быть правдой.
— Ах, так! — сказал Дьего. — Прощай!
Он заснул сразу и спал так крепко, что, когда очнулся под вечер в полумраке, не мог сообразить: предрассветный это час или сумерки. С минуту он лежал неподвижно, отупевший от усталости, и, прежде чем успел прогнать сонную одурь, опять заснул и во сне тотчас же с необычайной остротой и ясностью осознал, что не спит, и в келье, кроме него, находится еще кто-то. Однако глаз не открыл. Чему быть, того не миновать, — он понимал это, — но хотел продлить мгновения спасительной отрешенности и тем самым отогнать от себя еще неведомую, но неотвратимую неизбежность. «Не надо бояться», — подумал он, и страх, будто вызванный этой мыслью, заставил сильней биться его сердце, сковал холодом лоб и губы. «Нет, нет, только не это!» — вслух произнес он и открыл глаза.