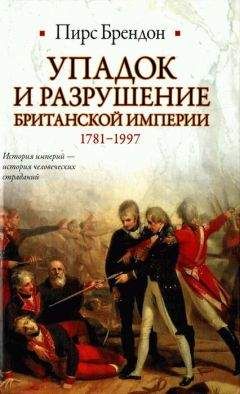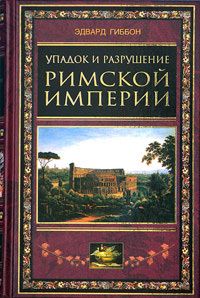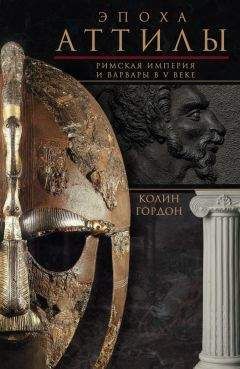Николай Алексеев - Брат на брата
— Нет, я тебе не заступник, — с некоторою строгостью промолвил святой владыка, — абы нужда была большая, абы точно обижен был, тогда бы я заступился… А у тебя суетность. Тебе хочется власть над людьми иметь, превыше других стать…
Святитель взглянул на бледное, со следами слез лицо Ивана, и его доброму сердцу стало жаль юноши.
— Ты не крушись, — заговорил он мягко, — я не в осуждение, а в назидание… Гони мысли суетные, Богу молись, служи князю-государю верой-правдой, и он тебя не забудет. А коли что, тогда и я тебе пособлю. Иди с миром, чадо.
Странную противоположность один другому представляли эти два человека. Один из них, старец, смотрел ясным, глубоким взглядом; тихою ласкою веяло от его величественного лица, обрамленного белоснежною бородою; сказывалась какая-то мощь духа в этом слабом, согбенном теле.
Второй — юноша, стройный как тополь, могучий, как богатырь, стоял понурый, со злобно блестящими глазами и искаженными чертами лица; брови сдвинулись, словно кому-то грозя, около глаз залегли темные полосы. В этот миг он казался олицетворением злобы.
Не отозвались слова святого старца в душе Ивана: „дух зла“ овладел им и ожесточил сердце. Он ушел от владыки еще более озлобленным, еще более отчаявшимся.
Когда он шел по улице, прохожие с удивлением и боязнью сторонились от него: таким „волчьим“ взглядом окидывал он их. В нем едва признавали юного Вельяминова, которого привыкли видеть с открытым приветливым лицом и ясным взглядом.
Он словно постарел на десяток лет.
— И владыка не заступился! Кто же заступится? Ужели так-таки ничего и не поделать? Нет же, нет! Не буду тысяцким, буду еще большим. А князю-государю отплачу… Погоди, дай срок!
И злобные мысли вихрем теснились в голове.
Он вернулся в свой дом — обширный и крепкий — и затворился в „одрине“ [4].
Он не вышел к обеду, не сел за ужин.
Слуги перешептывались и дивились, прислушиваясь к его шагам — ровным, непрестанным.
— Чай, все по отце скорбит.
— Не ест, не пьет — уж это Бог знает что.
— За сердце взяло.
Оно и точно — крепко „за сердце взяло“ Ивана. Он не знал, что делать с собой, как затушить пламень, жегший душу.
Он пробовал молиться — молитва не ладилась. Он решал пересилить думы и не мог.
Несколько раз шевелилась отчаянная мысль:
— Лучше не жить бы.
Но все существо восставало против „бездны смерти“.
Жить, жить! Но так, как ему хочется.
Но как устроить? Где искать помощи?
И откуда-то из неведомых тайников души словно прозвучало:
— У меня!
И в соображении его пронеслось грозное, черное лицо Сатаны.
Он вздрогнул, оперся на тяжелый дубовый поставец и бессильно, чуть слышно прошептал:
— У тебя?1
Ужас объял его.
Но злоба была сильнее уж-аса.
— А что ж бы… тать и у тебя… — промолвил он побледневшими губами.
— Хоть бы и у тебя! Ты-то дашь ли мне, чего желаю?
Где-то откликнулосъ в душе:
— Дам.
Твердою решимостью наполнилось сердце Ивана.
— Так пусть жe! Пусть хоть катана мне поможет!
И он снова зашагал по своей одрине, грозный, нахмуренный, со сжатыми в кулаки руками.
Мысли теснились в его мозгу и давили его.
Черные, страшные думы. Он мысленно отдавал свою душу дьяволу, он мысленно прибегал к чарам.
И воображение рисовало ему будущее его могущество.
Он видел себя богатым властелином.
Он водил полчища, лилась кровь „его ворогов“.
Он видел Москву спаленную, и князя Дмитрия Иоанновича, лежащего в прахе у копыт его коня.
— Так тебе, так тебе! Так больше тысяцких не надобно, княже?
И злобно хохочет он и вот-вот готов раздавить великого князя конской пятой.
— Разве за все это не стоит душу продать? — размышляет он.
И сам себе отвечает:
— Это ли души не стоит? Если бессильны руки сотворить, если на силу есть сила большая, помогут чары. Для волшебства и колдовства все можно. Не спасут ворога ни его ратные люди, ни крепкие стены.
Чара, как пыль, сквозь щель пройдет, как вода, через чуть приметную скважину проберется. Сказал — не мытьем, так катаньем. Дойму…
И работают думы, и то застывает, то трепетно бьется сердце его.
Время идет. Стало темнеть.
Кое-кто из слуг, не дождавшись выхода своего господина, стал приваливаться на покой.
Затих дом.
Вдруг среди тишины громко прозвучал и поднял всех на ноги господский приказ:
— Оседлать коня!
Через несколько минут оседланный конь фыркал у крыльца, а еще немного спустя вышел туда же Иван Васильевич?.
Он был в одном кафтане, без охабня; у пояса покачивался тяжелый меч и сабля в бархатных ножнах, за плечами — лук и колчан.
Он изготовился, как к бою.
Нахлобучив плотней шапку, Иван вскочил на седло, склонился вперед, гикнул и вихрем вынесся за ворота и скрылся от глаз удивленной челяди во мраке осенней ночи.
IV
Некомат Суровчанин
Не то дорога, не то просека пролегла через лесные дебри.
Луна чуть проглянет и вновь спрячется за покровом облаков, которые медленно и неустанно ползут по небу, серея, как столбы дыма.
Немало надо храбрости, чтобы ехать одному в глухую полночь по лесной чаще.
В ней много волков, но что еще страшней — много лютых людей. Зверь помилует, побоится тронуть, а человека не возьмешь страхом или мольбой. Не тронутся слезами окаменелые сердца, ш бердыш с размаху размозжит голову.
Вероятно, это хорошо знал путник, пробиравшийся по просеке на бойком аргамаке. Он держал наготове копье, жало которого серебром светилось при проблеске месяца.
На мгновенье луна вырвалась из-за облаков и озарила ехавшего.
Он молод. Ему лет тридцать, не больше;
Плечи широки, стан крепок. Для злых людей — он не легкая добыча: сможет постоять за себя.
Лицо, окаймленное темно-русой бородкой, красиво, но бледно и угрюмо.
Брови сдвинулись, а глаза вспыхивают недобрым огоньком.
Если бы встретился москвич, то без труда признал бы в ночном путнике богатого купца прозвищем Некомат Суровчанин.
Тот же встречный, конечно, подивился бы:
— Что ему здесь надобно?
Удивление москвича было бы тем более понятно, если мы поясним, что путь-просека вел ни более, ни менее как только к мельнице некоего Хапилы, пользовавшегося недоброй славой колдуна.
Чтобы объяснить читателю смысл путешествия Некомата, мы должны оставить его продолжать путь к колдовской мельнице, а сами вынуждены взглянуть на жизнь купца Суровчанина вообще и, главным образом, на те события, которые разыгрались в доме Некомата всего несколько дней тому назад.
Итак, забудем на время про его поездку и перенесемся в усадьбу, окруженную добрым тыном, за которым, куда глаз ни глянь, раскидывались поля и луга, окаймленные вдали темной полосой леса…
…Ясное осеннее утро.
Некомат стоит у окна и смотрит на окрестности.
Поля со щетиною сжатой ржи, луга с сильно поднявшейся отавой. Дальше лес с темными пятнами хвои и желтыми и красными набросками отживающей листвы.
Вились думы:
— Ишь, земли! Глазом не охватишь. Тут тебе и луга, и поля, и бор… Бо-о-гатство! Сена к Петрову дню что накашиваем! А хлеба сбираем, а овса… Уйма! Да еще старания, какого нужно, не приложено. А постараться, — приглядеть здесь-там, пораньше встать, попозже лечь — огребай добро лопатами! Э-эх! Было бы мое, сумел бы постараться. А так, чужое-то обхаживать, кому охота? Честь-то все равно одна будет: пройдет мало времени — помелом погонит. Мне бы пока что хоть малую толику припрятать… Люди думают: Некомат гость богатый, большой торговый человек… Знали бы они, что я только пасынковым добром и дышу. Сполнится ему двадцать годов, все он и заберет. И останусь я чист молодец. Плохо распорядилась покойница, что говорить. Обидела меня. Его, говорит, отец наживал, так ему всем и володеть. А все толковала, бывало, «муженек любимый». Вот те и любимый.
Угрюмое лицо Суровчанина покрылось пятнами от желчного волнения. В тусклых, впалых глазах сверкнули злые искорки. Он нервно бороду дернул и отошел от окна.
— Грехи одни! — пробормотал он, прохаживаясь. — Кабы отделаться от этого царнишки. А-ах кабы!
Тихо стукнули в дверь светлицы.
— Кто там? — спросил Некомат.
В дверь выставилась кудлатая седая голова.
— Что тебе, Пахомыч?
В комнату бочком пролез приземистый старик с обезьяньим лицом, испещренным морщинами, и юркими лукавыми глазами, полуприкрытыми клоками седых бровей.
— Я к твоей милости, — проговорил Пахомыч.
— А что?
— Силушки нет сладить с пасынком твоим. Помилуй, совсем заморил он Чалого.
— Этакого коня?!
— Пропала лошадь. Вхожу сейчас в конюшню, гляжу — сена не ест и сама дрожит. На ней теперь разве впору воду возить да и то годится ль!
![Э. Гиббон - История упадка и крушения Римской империи [без альбома иллюстраций]](/uploads/posts/books/184344/184344.jpg)