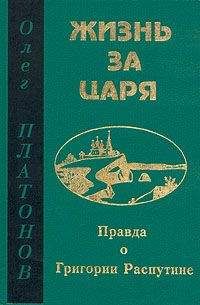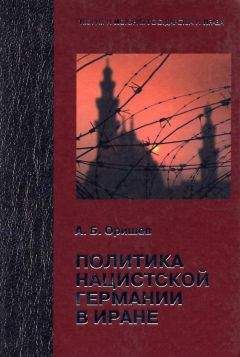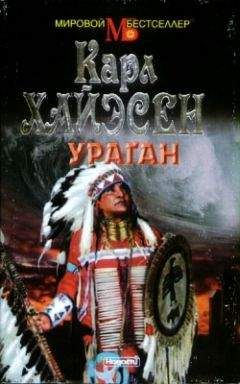Теодор Парницкий - Аэций, последний римлянин
Еще громче ударили в небо трубы. От храма Фортуны сворачивал на Саларийскую дорогу королевский поезд. Аэций издали узнал белого коня и статную фигуру дерзновеннейшего из дерзких — Алариха Балта. В нескольких шагах перед королевским конем шла, еле волоча ноги, молодая женщина, смертельно бледная, но горделивая и спокойная. Губы ее были крепко сжаты, глаза устремлены на гладко тесанный камень улицы. Аэций сразу понял все. Вот так же четыре века назад входила в город Туснельда в триумфальном шествии Германика. Только у Туснельды были голубые глаза, а у этой — черные, чуть выпуклые и несколько округлые, у Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия Августа, выходящей из города в триумфе варвара. Рядом с Аэцием раздалось громкое рыдание. Он обернулся: ритор и священник плакали, припав друг к другу головами.
Аэций не плакал.
6Флавий Констанций, magister militum[10], осадил коня и, морща черные сросшиеся брови, процедил сквозь зубы:
— Усилить правое крыло.
Вождь аквитанской Галлии бессильно развел руками.
— У меня нет больше конницы, сиятельный.
Большая голова Констанция затряслась под серебряным, украшенным фигурами святых шлемом с белым султаном; круглые глаза презрительно взглянули на собеседника и обратились влево, где в отдалении, видная как на ладони, сверкала темная гладь Средиземного моря.
— Сбросим их в залив.
Вождь аквитанской Галлии бросил взгляд на усеянное сражающимися и трупами поле, усмехнулся искривленным ртом и повторил:
— У меня нет конницы.
Констанций неторопливо перекинул левую ногу через седло, приподнялся на белых, холеных руках и медленно сплыл на землю.
— Щит.
Двадцать шесть пар глаз вопрошающе взглянули на полководца. Большая голова вновь затряслась.
— Я возвращаюсь в первую шеренгу. За мной!
Все кинулись к нему с восклицаниями, мольбами.
— Мы охотно пойдем… Но ты не можешь подвергать себя опасности, сиятельный… И что мы поделаем без конницы?.. Хоть бы еще одну турму, может быть, и хватило… А так мы не справимся.
— Будем биться строенным порядком, как Сципион.
И махнул рукой. Во весь опор помчались к сражающимся препозиты, неся приказ: конница на обоих крылах отступает за велитов и фундиторов и в тылах пехоты соединяется в один большой отряд. Велиты и фундиторы должны прикрыть ее. Пехоту сосредоточить в центре… разбить на три части… принципы, гастаты, триарии.[11] Пока конница не отдохнет, копейщики будут сдерживать весь натиск врага…
— Это самоубийство… лучше отступить, — проворчал комес Криспин.
Констанций не разражается гневом. Он только пожимает сутулыми плечами и указывает рукой на поле.
— Варвары сражаются так, как пятьсот лет назад… Почему бы и нам не сражаться, как Марий?..
Громкий крик из двадцати шести глоток заглушил его слова.
— Смотри… смотри, сиятельный… Отступают… не устояли… идут врассыпную… Хоть бы одну турму… еще одну турму… и с Атаульфом будет покончено!..
Констанций не верит своим глазам. Конница на левом крыле, выполняя его приказ, уже отходила под защиту велитов — на правом же, где, видимо, приказа еще не получили, быстро двигающееся облако пыли явно стремилось вперед, в противоположном направлении от стоящей на холме свиты командующего, издающей громкие возгласы радости и триумфа. В самом опасном месте вестготы отступали.
— Да ведь это тоже вестготы… наши вестготы… Вестготы Сара, — задыхался от радости вождь аквитанской Галлии. — Они ненавидят род Балтов. Глядите… глядите: они мчат вихрем… рассекли их надвое… окружают…
И, подбоченясь, победоносно взглянул на комесов и трибунов. Ведь не прославленная императорская гвардия, не италийские легионы, а предводительствуемые им ауксиларии[12]… скромные, презираемые всеми ауксиларии вырывают у врага победу в последний момент!
Констанций снова садится на коня.
— Имя варвара, который ими командует? — спрашивает он, указав взглядом на исчезающее вдали облако.
— Это не варвар, сиятельный… это тот юнец… вместо раненого трибуна, центурион… сын Гауденция…
Снова трясется большая голова.
— Ударить всеми силами… Гнать… Сбросить в море… Вперед!
Рискуя сломать шею, свита бешено скатывается со взгорья.
Наголову разбитые, поредевшие войска короля Атаульфа беспорядочно бежали к Пиренеям. Победоносный Констанций с изумлением разглядывает сына Гауденция, предводителя готов Сара. На нем распахнутая на груди кожаная куртка, через левое плечо перекинута облезшая волчья шкура, в руке огромный германский меч.
— Ты бы еще шлем с рогами на макушку себе насадил, — усмехается Констанций.
Молодой центурион весело скалит здоровые белые зубы.
— А не помешал бы.
Констанций морщит сросшиеся брови.
— Ты командовал конницей.
— Ты сказал, сиятельный.
— Ты что, не получил приказа об отступлении?..
Сын Гауденция придвигается к самой голове Констанциевого коня.
— Получил.
— Посмел ослушаться?..
Снова сверкают в улыбке два ряда белых зубов.
— Я думал, что плохо понял приказ… или не расслышал…
После минутного молчания Констанций ударяет коня пятками коротких ног и, готовясь отъехать, бросает:
— В строенном порядке мы бы их легче разбили.
— Не осмелюсь не поверить тебе, сиятельный.
Констанций, удивленный, снова удерживает коня.
— Значит, не веришь?..
— С варварами надо биться их способом, — слышится ответ. — Я бы сковал наши ряды железной цепью.
Констанций презрительно выпячивает тонкие губы.;
— Римлянин гнушается варварскими способами боя, — цедит он сквозь зубы.
— Не каждый римлянин, — отвечает Аэций.
7В кубикуле мать невесты и пронуба[13] гасят по очереди все лампы. Только маленький бронзовый светильник, искусно изваянный в виде двух неразрывно сплетенных рук, всю ночь будет бросать скупой желтый свет, чтобы новобрачные могли видеть свои лица. Чтобы свет от него падал как раз на изголовье широкого супружеского ложа, светильник надлежит повесить в определенном месте на специально для этого предназначенный крюк. Сделать это должен новобрачный. Пока что круг желтого света выхватывает из мрака две большие ступни, судорожно впившиеся пальцами в мягкую красную ткань, устилающую пол супружеской комнаты. Владелица их уже полностью готова к приему мужа, облачена она только в очень просторное ночное одеяние, перехваченное пояском, который, как велит обычай, она развяжет сама, когда услышит шаги супруга. Одеяние это, которое переходит из поколения в поколение и которое много десятков лет тому назад было на матери короля Фритигерна, надевается только раз в жизни — в брачную ночь. Оно не белое, как свадебные облачения римлянок, а ярко-красное, без всяких украшений, кроме пояска, и всего лишь до колен, спереди оно разрезано, обнажая упругие груди.
Мать в последний раз целует дочь в щеку, пронуба еще раз проверяет, удастся ли легко и быстро развязать пояс, после чего обе выходят и воцаряется минутная тишина.
Минутная… потому что новая резкая судорога больших толстых пальцев на красной ткани явно говорит, что новобрачная знает… чувствует, что он уже тут… что он стоит перед нею, сдерживая резкое, прерывистое дыхание. Стоит в кругу света, любимый, желанный и вместе с тем вызывающий волнение и тревогу. Достаточно поднять длинные черные ресницы над светлыми-светлыми голубыми зрачками, и она увидит его всего… Только не смеет и, когда дрожащими пальцами распускает пояс, ничего не видит, кроме двух пар ступней, чуть касающихся кончиками пальцев.
Но и он, кроме этого, ничего не видит. Не потому, что вся фигура жены тонет во мраке — ведь он мог бы с легкостью сильной, очень сильной рукой вытянуть ее на середину светового круга, но и он… не смеет… Ведь это первая женщина в его жизни! На двадцать четвертом году жизни!
И не столько праведное христианское воспитание, которое он получил в детстве, не стоические нормы, внушенные учителем-грамматиком, поклонником Марка Аврелия, сколько трехлетнее пребывание среди готов и усвоенные им суровые варварские нравы причина того, что вот он стоит перед своей женой такой же неопытный в любви, как и она!.. И так же, как она, жаждущий и умирающий от любопытства и вместе с тем полный какой-то тревоги.
Но он же мужчина, и вот спустя краткий миг руки его впиваются в красное просторное одеяние матери короля Фритигерна, хотя глаза не смеют еще взглянуть в лицо, по которому он мог бы прочитать все, что чувствует, что думает, что теперь испытывает жаждущая ложа и познания его таинств и одновременно полная страха и радующаяся каждой минуте промедления молодая женщина…
В триклинии тоже погасли все лампы, кроме одной, изображающей негритенка с яблоком в каждой руке. Одно яблоко надкушено, другое еще не тронуто — в обоих горит масло, желтым светом озаряя лицо magister equitum[14] Гауденция и гота Карпилия, начальника дворцовой гвардии. Свадебное пиршество уже кончилось, только что покинул триклиний самый знатный гость, главнокомандующий и консул Флавий Констанций; в углу дремлет седобородый грамматик, бывший учитель маленького Аэция, ныне автор эпиталамы, которая вызвала подлинное восхищение новобрачных, их отцов и гостей.