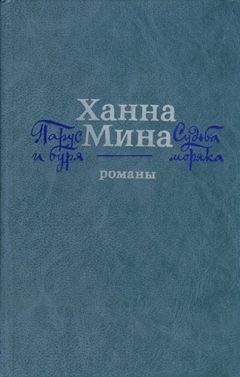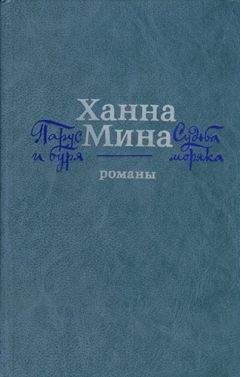Евгений Сухов - Кандалы для лиходея
Вместе с двумя имениями, что достались от отца, Модеста Юрьевича, во владение графа Виктора Модестовича перешли одно имение дяди Матвея и два имения двоюродного брата Михаила Михайловича, в том числе и поместье Павловское в Рязанской губернии. Оно-то и являлось последним, которое должен был посетить с ревизией главноуправляющий всеми имениями графа Виктора Модестовича Виельгорского господин Илья Яковлевич Попов перед самым отъездом в Москву.
– Значит, так, старый, – сказал Филимонычу вернувшийся от обер-полицмейстера Власовского Виктор Модестович, – ступай-ка ты на телеграф и вызови ко мне безотлагательно моего управляющего павловским имением… этого… как его… Киржацкого… Кирмацкого…
– Козицкого, – подсказал барину камердинер с некоторой укоризной. Вот ведь до чего беспутая голова: не помнит фамилию одного из тех, кто тебя кормит. Ну, что с таким барином поделаешь?!
– Да, господина Козицкого, – повторил за Филимонычем Виктор Модестович. – Скажи ему, чтобы прибыл как можно скорее, поскольку… поскольку…
– Поскольку Попов пропал? – снова подсказал Филимоныч.
– Нет, – раздумчиво произнес Виельгорский, вспомнив, о чем его предупреждал Власовский. – Скажи, барин-де отчетность желает проверить. За последние два года. Да, именно так.
– Еще какие-либо распоряжения от вашего сиятельства будут? – спросил камердинер, вытянувшись в струнку, ежели можно так сказать применительно к старику.
Виктор Модестович с некоторым недоумением и недоверием посмотрел на Филимоныча:
– А ты чего так со мной разговариваешь?
– Недопонял, ваше сиятельство, – сморгнул камердинер.
– Сиятельством меня называешь, – пристально глянул на Филимоныча Виельгорский. – Распоряжений требуешь. А не далее как утром поносил меня, ворчал и прямо командовал мною…
– Так то ж для дела, ваше сиятельство, – преданно глядя в глаза барина, ответствовал камердинер. – Чтобы оно сдвинулось. А теперича, когда я вижу, что дело стало двигаться, пошто же мне на вас ворчать? – с великим удивлением произнес Филимоныч. – Да и не командовал я николи вами. Разве ж слугам положено барами командовать? – Филимоныч переменил тон на крайне возмущенный и даже негодующий. – Это что ж тогда получится? Несуразица какая-то. Ежели, стало быть, слуги барами станут командовать. Не-е-ет, ваше сиятельство, слугам барами командовать никак не можно. Потому как такое дело будет противуестественно, то есть против естества, Богом, природою и государем императором нашим установленного…
Камердинер снова сморгнул. Хитрый он был, бестия, хоть и старый. И любил пошутить. А над кем шутить, ежели во всем доме он да граф. Да еще кухарка Марфа. Но она не в счет: тупая как валенок. Глупая то есть. С такой шутки шутковать неинтересно.
Виельгорский скосил на него глаза. Ишь, умничает. Разошелся, старый. Вот шельма: с барином своим, с графом Российской империи, шуткует. Ну, погоди ж ты у меня… А впрочем, старик он неплохой. Да и дело свое знает превосходно. Пусть себе… Сколько он в камердинерах? Лет тридцать? Да, пожалуй, что поболее будет. Его ведь еще батюшка покойный, царствие ему небесное, произвел из старших лакеев в камердинеры. А годов-то ему сколько? Граф непроизвольно хмыкнул и отвел от Филимоныча взор: наверное, за шестьдесят… Да нет, более. Под семьдесят – точно. Если не за семьдесят… Ладно, не до счету тут.
– Ступай себе, – отмахнулся граф.
– Так, стало быть, более никаких распоряжений от вашего сиятельства не поступит? – спросил Филимоныч.
– Не поступит, – в тон камердинеру ответил Виктор Модестович.
– Стало быть, я пошел?
– Иди же!.. Да, вот что, старик, – остановил его уже в дверях Виельгорский. – Ты меня, когда мы не на людях, вашим сиятельством не зови, пожалуйста.
– Это отчего же? – прищурил выцветшие глаза Филимоныч.
– Не зови, и все, – отрезал граф.
Но Филимоныч его резкого тона не принял:
– Да отчего же, ваше сиятельство, не звать вас вашим сиятельством? Ежели б я, к примеру, был бы графом, то непременно бы заставлял всех своих слуг величать меня никак не иначе, нежели «вашим сиятельством». Это же… звучит! Нет, ваше сиятельство, – продолжал шутковать старик, – я вас непременно буду звать так, поскольку преисполнен уважения и почитания и помимо прочего…
– Не зови, я сказал! – повторил граф, перебив камердинера, и даже притопнул ногой. – Неловко мне… Да и… ступай ты наконец!
– Слушаюсь! – произнес бодро камердинер и хотел было добавить «ваше сиятельство», но передумал.
Во-первых, потому, что во всем, даже в шутках, нужно знать свою меру. А во-вторых, незачем почем зря злить барина. Он хоть и граф, а все равно что дитя. Рохля, одним словом, хотя уже за сорок годков пробило. А еще добрый он, что по нынешним временам качество весьма редкое…
* * *Самсон Николаевич Козицкий пребывал в любовной истоме. А все Настька… Чудо-девка! До чего сладка, зараза, просто спасу нет. Вот сейчас вроде и силы на исходе, да и желание на нуле, а посмотрит эдак с хитринкой или нет, с призывом в глазах, тронет за грудь, проведет ласково по дремлющим чреслам – и вот, нате вам! Опять возгорается желание.
Славно! Нет, господа, что ни говорите, а женщина – самое настоящее чудо природы. Пусть даже это будет деревенская девица вроде Настьки. Высокая грудь, без единого изъяна лицо, длинные крепкие ноги… Ведь от всего этого голова идет кругом, наступает дрожание в коленках и появляется холодок в животе! А округлые линии женских форм? Ведь именно они сводят с ума мужчин, поскольку сокрыты одеждами, что заставляет усиленно работать воображение и домысливать о пикантностях женской фигуры.
Самсон Николаевич повернулся на бок и положил ладонь на бедро Настасьи, а лицом уткнулся в ее грудь. Она пахла сеном и яблоками.
До чего же сладкая баба! Нет, не баба. Настасья на бабу не похожа. Бабы вон с коромыслами по селу ходят. Семечки лузгают. Сплетничают. Лаются меж собой. А эта не такая. Есть в ней что-то затаенно благородное, что ли. Даже непонятно, откуда среди навоза такая краса выискалась.
Козицкий помял грудь Настькину, придвинувшись еще теснее, и тут в окошко флигеля легонько стукнули.
– Не обращай внимания, – сбившимся дыханием шепнул Козицкий Настасье, которая от звука встрепенулась и навострила ушки. – Нас здесь нет.
– Да как же нет, когда все знают, что вы здесь, – шепнула она Самсону Николаевичу в самое ухо, обдав его щеку жарким дыханием. Похоже, что ей тоже было сладко с таким мужчиной, как Козицкий.
Стук повторился уже настойчивей.
– Господин управляющий! – проговорил громко за окном голос.
– Вот ведь неймется кому-то, – в сердцах произнес Козицкий и приподнялся, дабы взглянуть в окно. Но оно было зашторено, и пришлось вставать. Настрой был испорчен, так что ничего не оставалось делать, как растворить штору и столкнуться через два стекла с виноватым взглядом Никанора Ивановича, помощника телеграфиста, которому в обязанность входило разносить телеграммы. На вопросительный взор Козицкого Никанор Иванович помахал телеграфным бланком и добавил:
– Вам срочная телеграмма!
Козицкий приподнял брови, что могло означать как удивление, так и легкий испуг. Он распахнул окно, расписался в получении послания и принял небольшой плотный лист. Когда он прочитал содержание этого листа, брови его опустились на место.
– Что там? – заинтересованно спросила Настасья, поскольку, будучи его сожительницей, полагала, что имеет право знать, как обстоят дела у ее мужчины и что его беспокоит. А то, что Козицкий обеспокоен, было заметно.
– Граф Виельгорский требуют приехать с отчетом…
– И чо? – приподнялась на локтях Настасья.
– Да ничо! – передразнил ее Самсон Николаевич. – Ехать надо, вот и все!
– Ну так едь, коли надобно, – резонно заметила ему женщина и стала одеваться.
Козицкий пристально посмотрел на нее. Вот ведь бабы, а? Все им нипочем, а на вид – такие нежные и мягкие создания…
«А-а, – подумал Самсон Николаевич, – завтра поеду. Надо еще отчеты вечерком до ума довести…»
– А ты что это одеваешься? – посмотрел на полюбовницу Козицкий.
– А что? – вопросительно посмотрела на Самсона Николаевича Настасья, словно не поняла вопроса. Но одеваться перестала.
«Вот ведь бестии, – подумалось Козицкому, – до чего ж хитры! С этой Настасьей надо быть поосторожнее, никогда не знаешь, что у нее там на уме». И то была последняя более-менее здравая мысль, поскольку кровь прилила к голове и тотчас прогнала все думки. Кроме разъединственной, про которую говорить вслух не принято.
Глава 4
Самое начало июня 1896 года