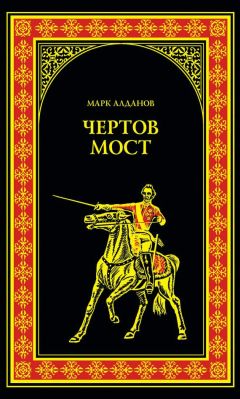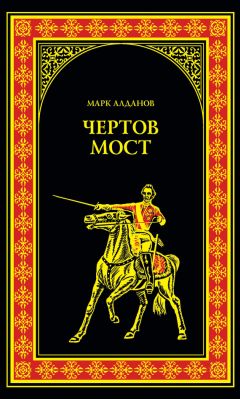Тулепберген Каипбергенов - Сказание о Маман-бие
Но более всего дивился Маман человеку, который подарил ему свою правду и готов был еще дарить. Принимать ее — смертный грех. Но ничего слаще этого греха Маман пе знавал. И слушал со счастливым чувством, будто нашел клад, с трепетным ожиданьем, с горячей благодарностью. Не раз ему хотелось по мусульманскому обычаю припасть к ногам иноверца. Хотелось вскрикнуть: отец! Маман едва сдерживал эти порывы. Смотрел в прозрачные, крупные, как у совы, глаза, которые его завораживали, и думал: какой же огонь скрыт, точно под золой, под этими шрамами, в этом битом и ломаном могучем теле.
— Бородин-ага… есть ли у вас сын?
— Двое! Старший, Владимир, твой сверстник. Младший — Петяй, Петра… Крещен царским именем, авось не уронит.
— Они купцы? Будут купцами?
— Нет, никак нет. Время у пас новое. Есть дела новые. Еще мой батя был живой-здоровый, как мы порешили: старшему дорожка столбовая — в город Тулу, младшему — в Питер.
— Зачем?
— Одному — в оружейники, другому — рубить корабли. Ноне, видишь ли, такая нужда. Ее царь Петр ухватил за хвост, как жар-птицу, и нам заповедал. Он великий был охотник и умелец уразуметь, какая есть в мире нужда. Нашему брату от такого царя срам отстать.
— Но царь Петр умер…
— Воскреснет! Яицкие-то казаки потрепали вас при дуре царице, Анне Иоанновне, прости, господи, великое прегрешение. Ноне правит Елизавета, Петрова кровь! Кто ее сажал на престол? Петровы люди.
— Откуда вы знаете?
— Стало быть, знаем. Забыл, молодой мулла? Короткая у тебя память.
Маман не забыл… Он хорошо помнил, как наведывались его отцы, батыр и шейх, к русскому пленнику с золотой бородой. Теперь Маман понимал, что приходили не просто глазеть, любопытствовать, приходили советоваться. Значит, и им интересны были его слово, его ответ.
— Презираете меня? — спросил однажды Маман, и ему очень хотелось, чтобы Бородин возразил, но тот лишь пожал плечами.
— Не любишь, не уважаешь свой народ… Мулла ты недоучка. Кто дорожит своим народом, тому душу воротит — обидеть другой народ. Мы, братец, и беленькие, и черненькие — все от бога!
Вот и такого Маману не доводилось прежде слышать. Разве не загадочные речи? Чем были велики татары? Тем, что топтали русских. Чем стали велики русские? Тем, что топчут татар. Так привык думать Маман.
— А как понять… что такое нужда, которая как жар-птица?
— Это нужда самая наибольшая, она как божий произвол. Ей, как господу, вес подвластны — и парод, и цари. Уловишь, ухватишь эту нужду — будешь царь, а нет — так и помрешь дурак дураком, хотя и на престоле.
— Не понимаю…
— И молодец, что не корчишь из себя… не пыжишься, как ваши родовитые баи.
Все же Маман спросил:
— А может, это и есть наша жар-птица — держать вас в плену?
— Путаешь иголку с мечом! Ваша нужда проще простого, нужда великая…
Бородин умолк в раздумье, но Маман понял, что он хотел сказать. Оразан-батыр говорил точно так же: жили бы мы под рукой русского царя, не было бы у нас годины белых пяток.
Случалось, что и Бородин расспрашивал Мамана, допытывался, что делают, о чем думают его отцы — батыр и шейх. Маман отвечал как умел, забывая о том, что доверить иноверцу — то же, что прыгнуть, закрыв глаза, в колодец.
Один давний его вопрос не шел из головы Мамана. Кувыркался в голове, как в небе кара-торгай, или черный воробей, а по-русски — жаворонок. Лукавый вопрос: о чем же ты, милый, мечтаешь? Нет, не хотел Маман согласиться, что он без хмеля в душе… Была и у него своя Индия, тайная, самая заманчивая. Маман думал о ней застенчиво и дерзко, как иные думают о девушке. Его Индия — не на востоке, а на западе. Его Индия — страна Петра, царя-плотника, царя-мастерового, какого не знавали ни в жизни, ни в сказке… А верно ли, что первым его другом был нищий сирота? Истинная правда. А верно ли, что в гневе он не знал пощады? И то правда. С дрожью в сердце внимал Маман: его друзья были тоже сироты, нищие и он тоже хотел быть беспощадным.
Как-то раз Маман увидел Бородина, каким еще никогда не видел. На камне сидела женщина с опухшим от слез лицом, серым, как старая застиранная ткань, простоволосая, растрепанная. Бородин обнимал ее худые костлявые плечи, дрожащие от рыданий, и в прозрачных его глазах тоже стояли слезы. Увидев Мамана, женщина со стоном поднялась и пошла к камнетесам.
Маман замер на месте, будто пришитый гвоздями к земле. Спросил, кто эта женщина, уж не родная ли?.. Бородин кивнул.
— Родная… У нее на глазах померла мать, а сегодня утречком — сынок, единственный, последний. Многовато слез в этом ущелье… Проточат землю… Расколется земля!
Маман привык к людскому горю. Он не помнил своей матери, не помнил, чтобы плакал, и не помнил, когда бы испытывал жалость… А тут и у него навернулись слезы, и слезы эти были ему желанны.
Это было накануне отъезда Оразап-батыра в Хорезм. И вот, проводив в далекий путь отца, прибежал Маман в горы. Хотел поведать поскорей, что сказал на прощанье батыр, а что шейх. Поведать, как одинок неутомимый, безотказный Оразан-батыр, — провожал его только шейх, бии других родов не показались. Хотел услышать похвалу батыру, осужденье биям… И вдруг — спросил, глядя в прозрачные глаза своему третьему неназваному отцу:
— Бородин-ага… бог создал человека из глины, вас — из железа… Вы храбрый как лев… Почему не уйдете отсюда? Разве вы не можете бежать?
— Бежать? Спасибо, братец. А эти бабы, мужики? Какая казнь будет им в отместку за то, что я уйду?
Тогда Маман понял, что Бородин хочет и чего от него ждет. Догадывался и раньше. Духу не хватало — задуматься всерьез. Теперь же он сказал себе, что так и будет, как этот человек хочет, как ждет. Горло перехватило.
— Готовьте хлеб-воду на дорогу,…- проговорил глухо.
— У нас все готово. Маман вскрикнул страстно:
— Клянусь!., клянусь… — и пустился бегом из ущелья.
3
На северной окраине аула, на склоне горы, ютилась лачуга без окон, без дверей, похожая больше на нору: стены из камня и земли, крыша из хвороста и земли. Здесь жили сироты, нищие дети.
Их десятеро — девять мальчиков и одна девочка, младшая. В одиночку им не прожить, вместе кое-как кормятся, побираются по очереди, долят добычу на всех поровну, вернее, как порешит старший мальчик. Ему лет семнадцать, другим — по десять — пятнадцать. Девочка вряд ли прижилась бы, не уцелела бы, но старший мальчик ее брат. Он — и отец, и мать, и хозяин всем остальным, его слово здесь последнее, и оно крепко и весомо, как его подзатыльники и зуботычины. Его зовут Аманлык, ее — Алмагуль.
У старшего есть, понятное дело, правая рука — разбитной парнишка, почти ровесник. Это Аллаяр. Он рожден для того, чтобы веселить. Когда его очередь идти по милостыню, а день неурожайный, когда в доме голодно, холодно, уныло, он балагурит, ноет, пляшет, строит рожи, пока ребята не хватаются за громко бурчащие животы. У сирот не бывает глаз без слез. И сиротская хибара не просыхала бы от слез… Он сушил ее смехом. Смехом умел накормить и согреть. Он один это умел.
Девчонку бог создал для того, чтобы таскать ее за косы, дразнить всласть, для общего удовольствия. Доля Алмагуль досталась, однако, мальчику — Бектемиру. Он был не слабей и не глупей других. Но он коротышка, и у него слишком тонкий и пискливый голос. И такой уж ему выпал удел.
Отцы Мамана дружили друг с другом, а с биями других родов больше спорили. Не ладил с бийскими сынками и Маман. Дружил он с сиротами. Сытые, обутые, одетые, спящие на подушках, юнцы смотрели на нищих детей свысока, обходили их, как заразу. Байскую спесь постигают с младенчества. Маман, единственный, не чурался сирот, держался с ними как равный. Над барчуками надменными смеялся. И сироты его любили.
Встречали его ералашным гамом; младшие, толкаясь, обхватывали его колени, висли на нем, непроизвольно ища ласки, которой они не знали и не узнают. Случалось, он приносил угощенье, но не этим дорожили. Дороже всего было то, что он приходил как к своим, как к родным. И Маману было хорошо с сиротами. С ними он тоже не чувствовал себя сиротой.
Несколько дней его не видели. Скучали без него. Наконец Аллаяр заметил его на тропе, тающей в горах.
— Идет! Мигом лачуга опустела. Все высыпали навстречу.
Маман подошел быстрым шагом, но — угрюмый и с пустыми руками, малышей оттолкнул от себя и даже при взгляде па Аллаяра не улыбнулся, как обычно, а насупился.
Аллаяр тотчас вцепился в него острым словцом, точно пес зубами:
— Маман, а у тебя во рту горох?.. Покажи!
Все, кроме Мамана, так и покатились со смеха. Тут был, конечно, подвох, и Маман невольно хмуро усмехнулся. Аллаяр не стал его томить догадками.
— Это мне в дырявый зуб попала горошина. Три дня не мог выковырять. А выковырял, смотрю, она уже проросла… Они, дураки, не верят. Видишь, взялись проверять. У всех во рту по горошине. Осталось два с половиной дня…