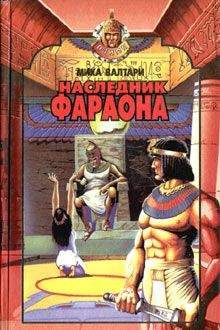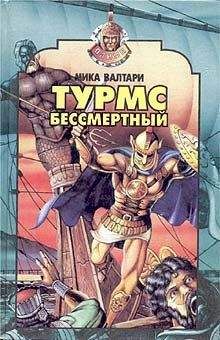Мика Валтари - Синухе-египтянин
Старик замолчал, отдышался, сел на землю и, уныло покачав головой, перевернул глиняную кружку вверх дном. Дикий огонь в глазах его погас, и передо мной опять был старый, несчастный человек.
– Но воину не надо уметь писать, – робко прошептал я.
– Хм, – произнес Интеб и бросил взгляд на моего отца. Отец быстро снял одно медное кольцо с запястья и протянул старику. Тот громко закричал, и тут же прибежал грязный мальчишка, взял кольцо и кружку и отправился в кабачок за вином.
– Не покупай лучшего! – крикнул Интеб ему вдогонку. – Возьми хоть кислого, его дадут больше! – Он опять обратил ко мне задумчивый взгляд. – Ты прав, – сказал он, – солдату не нужно уметь писать. Он должен лишь уметь сражаться. Если бы он умел писать, он был бы начальником и командовал солдатами, даже самыми доблестными, и посылал бы других в бой впереди себя. Потому что любой грамотный годится на то, чтобы командовать, но даже начальником сотни не назначат того, кто не умеет царапать тростниковым пером по папирусу. Что проку в золотых цепях и почетных знаках, если командует тот, у кого в руке тростниковое перо? Но так было и так будет всегда. Поэтому, сынок, если хочешь командовать воинами и управлять ими, научись прежде писать. Тогда украшенные золотыми цепями будут повиноваться и кланяться тебе и рабы понесут тебя на поле боя в носилках.
Грязный мальчишка вернулся с кувшином и кружкой, полными вина. Лицо старика озарилось радостью.
– Отец твой Сенмут – хороший человек, – сказал он любезно. – Он умеет писать и лечил меня в дни моей силы и счастья, когда я, заливаясь вином, повсюду начал видеть крокодилов и бегемотов. Он славный муж, хоть всего лишь лекарь и ему не под силу натянуть тетиву лука. Спасибо ему!
Я с ужасом смотрел на целый кувшин вина, за который Интеб явно хотел приняться, и начал нетерпеливо дергать отца за широкий, испачканный снадобьями рукав, ибо мне было страшно, что из-за этого вина мы скоро проснемся избитыми в какой-нибудь уличной канаве. Отец мой Сенмут с грустью посмотрел на кувшин, тихо вздохнул и, повернувшись, повел меня прочь. Интеб дребезжащим старческим голосом запел сирийскую походную песню, а голый, черный от загара мальчишка слушал и смеялся.
В тот вечер я, Синухе, похоронил мечту о воинской карьере и уже не сопротивлялся, когда на следующий день отец и мать повели меня в школу.
4
У отца, разумеется, не было средств на то, чтобы определить меня в большую школу при храме – в таких школах учились сыновья знати, богачей и жрецов высшего чина. Моим учителем стал старый жрец Онех, живший от нас всего лишь через две улицы, он занимался с нами у себя дома на ветхой, покосившейся террасе. Его учениками были дети ремесленников, торговцев, портовых надсмотрщиков и младших офицеров, чьей честолюбивой мечтой была карьера писца. Онех в свое время служил складским учетчиком в храме, так что он вполне мог дать начальные навыки письма детям, которые впоследствии должны будут учитывать, сколько принято и отпущено товаров, мер зерна, голов скота, или выписывать счета за продовольствие для солдат. В Фивах, этом огромном городе, были десятки и сотни таких маленьких школ. Ученье стоило дешево, потому что ученики должны были лишь содержать старого Онеха. Сын угольщика приносил древесный уголь для его жаровни, сын ткача снабжал его одеждой, сын зерноторговца обеспечивал мукой, а мой отец лечил от множества старческих недугов, давал облегчающие боли снадобья – настои трав, которые надо было пить с вином.
Благодаря этой зависимости Онех был нестрогим учителем. Если кто-нибудь из нас засыпал над письменной дощечкой, то вместо наказания розгами отделывался тем, что на следующий день притаскивал старику какой-нибудь лакомый кусок. Иногда сын зерноторговца приносил из дому кувшин пива. В такие дни мы внимательно слушали нашего учителя, потому что старый Онех увлеченно рассказывал удивительные истории и приключения в загробном мире и сказки о небесной Мут, о создателе всего – Птахе и о других богах, которых он знал. Мы хихикали, думая, что ловко провели его, так, что он на весь день позабыл трудные уроки и нудные письменные упражнения. Лишь гораздо позднее я понял, что старый Онех был более мудрым и тонким учителем, чем нам казалось. В сказаниях, оживляемых его по-детски чистым воображением, был известный расчет. Таким образом он учил нас нравственным законам древнего Египта. Всякое зло не останется безнаказанным. В свое время пред высоким троном Осириса будет без снисхождения взвешено сердце каждого человека, и тот, чьи злые дела выявятся на весах бога с головой шакала, будет брошен на съедение Пожирателю, а Пожиратель – это крокодил и бегемот в одном лице, но страшнее их обоих.
Он рассказывал также о мрачном боге с лицом, обращенным назад, ужасном перевозчике на реках Загробного царства. Без его помощи ни один умерший не попадет в край вечного покоя. Он гребет, всегда глядя назад, а не вперед, как земные лодочники на Ниле. Онех заставил нас вытвердить наизусть слова заклинаний, с помощью которых можно уговорить и задобрить Глядящего вспять. Мы многократно переписывали эти обращения, а он терпеливо, с мягкой настойчивостью поправлял наши ошибки. Тем самым он хотел нам внушить, что малейшая ошибка может сделать невозможной счастливую жизнь в Стране Заката, а если мы дадим Глядящему вспять неграмотное письмо, то на веки вечные останемся бродячими тенями на пустынном берегу мрачной, темной реки или, того хуже, попадем в страшные пропасти Подземного царства.
Несколько лет я ходил в школу Онеха. Отец считал, что нельзя насильно навязать человеку профессию, если к ней не лежит душа, и, если бы я не проявил способностей, он не стал бы делать из меня писца. Правда, тогда я этого еще не знал.
Самым интересным моим товарищем в школе Онеха был Тутмес. Старше меня на два года, он с малых лет привык обращаться с лошадьми и знал приемы борьбы. Его отец командовал группой боевых колесниц, носил знак своей власти – кнут с вплетенными в него медными проволоками и мечтал сделать из сына великого полководца, для чего и послал его учиться письму. Но его славное имя Тутмес не стало вещим предзнаменованием, вопреки надеждам отца. Ибо, поступив в школу, он забросил метание дротиков и конные упражнения. Письменные знаки давались ему легко, и, пока остальные ребята корпели до изнеможения над своими дощечками, он рисовал что в голову взбредет – боевые колесницы, вздыбленных коней, сражающихся воинов. Он принес в школу глину и совершенно преобразил пивной кувшин, оживляя Онеховы сказки. Он изобразил уморительнейшего Пожирателя, неуклюже разинувшего пасть, чтобы проглотить маленького, сгорбленного, лысого старичка с обвисшим брюшком, в котором нетрудно было узнать Онеха. Но Онех не рассердился. Да и никто не мог сердиться на Тутмеса. У него было простое, широкое крестьянское лицо и толстые, короткие ноги, но в его глазах всегда горели веселые искорки, а его ловкие руки искусно лепили из глины всевозможные фигурки животных и птиц, доставлявшие нам истинную радость.
Во время учебы со мной произошло чудо. Это случилось внезапно, так что я и сейчас еще вспоминаю тот миг как откровение. Был ласковый весенний день, в воздухе звенели птичьи голоса, и аисты хлопотливо чинили гнезда на крышах домов. Вода уже сошла, и земля вспыхнула свежей зеленью. На огородах высаживали рассаду. Такой день звал к увлекательным приключениям, и мы никак не могли усидеть спокойно на рассохшейся террасе Онеха, из стен которой вываливались кирпичи. Я рассеянно выводил нудные буквы, которые высекают на камне, а рядом с ними сокращенные скорописные знаки. Как вдруг какое-то уже забытое слово Онеха будто сдвинуло что-то во мне и разом оживило написанное. Из картинки возникало слово, от слова отделялся слог, слог становился буквой. Соединяя друг с другом картинки-буквы, можно было получать новые слова, живые, странные слова, которые уже не имели ничего общего с картинками. Картинка понятна даже простому поливщику полей, но две картинки, поставленные рядом, может понять только грамотный. Мне думается, каждый, кто учился искусству письма и научился читать, испытал нечто подобное тому, о чем я говорю. Для меня это было событием, более волнующим и увлекательным, чем украденное из корзины торговца гранатовое яблоко, более сладким, чем сушеный финик, и столь же желанным, словно вода для жаждущего.
С тех пор меня больше не нужно было уговаривать. С тех пор я впитывал науку Онеха, как сухая земля воду разлившегося Нила. Я быстро научился писать. Понемногу я научился также читать написанное другими. На третий год я мог уже читать вслух старые потрепанные свитки, чтобы другие писали под диктовку разные поучительные истории.
В то же время я заметил, что я не такой, как остальные. Лицо у меня было уже, кожа светлее, сложение более хрупкое, чем у соседских мальчишек. Я походил больше на детей знати, чем на людей, среди которых жил, и, будь у меня такие же одежды, вряд ли кто-нибудь смог бы отличить меня от тех мальчиков, которые разъезжали по улицам в носилках или гуляли, сопровождаемые рабами. Это вызывало насмешки. Сын зерноторговца попытался было обхватить мою шею руками и сказал, что я девочка, так что я был вынужден пырнуть его чертилкой. Близость его была мне неприятна, потому что от него дурно пахло. Я искал общество Тутмеса, но он никогда до меня и рукой не дотрагивался.