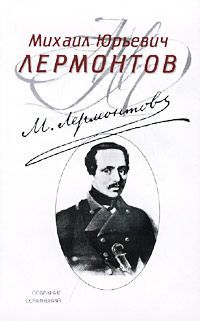Михаил Крупин - Самозванец. Кн. 1. Рай зверей
Тем не менее кошку сначала никто не заметил. Рыжая, в бурую полосу, вылетела она на бугор, сиганула на иву, а оттуда метнулась на мельницу. За ней следом мчало несколько человек, лохматых и тощих, в оборванных зипунах, они-то, как видно, и вышугнули бедняжку из-под чьего-то крыльца.
Стрельцы вскричали, тряся бердышами, но те, не раздумывая, уже лезли на мельницу вслед за добычей. На мельничной крыше полосчатый зверь весь собрался, примерился и прыгнул на мост. С правого берега, развалив цепь, подбегали стрельцы, и животное метнулось в сторону остановившегося посольства. На зубцах уже висели, подтягиваясь и болтая ногами над мельницей, полубезумные люди. Салтыков подскакал, стал работать и плетью, и саблей — сбрасывать охотников в воду.
Принц же Ганс Гартик, решив, что опять ловит ведьм инквизиция, принял у оруженосца, наставил на кошку копье, перепуганный зверь пробежал по нему, как циркач, и зазвенел когтями на ожерельях принца. Тем временем один оборвыш тоже, проскользнув под кулаком Салтыкова, су-мел-таки скатиться на мост. Он вмиг подскочил к принцу с криком:
— Отдайте, немец, кота, он невкусный!
Ганс Гартик улыбнулся, не понимая. Тогда мужичок вытаращил чумовые, в кровяных нитях, глаза, ухватился за серебряную узду бахмата, на коем сидел принц, и завопил благим матом:
— Ой, какой большенький коник! Мясца-то — и за день не скушать! Возьми кота, немец, коника отдай!
Бахмат, сам обезумев от криков, от кошки, взвился на дыбы, мужичок потащился, вцепившись в поводья, а принц растерялся и съехал в московскую пыль.
Но тут набежали стрельцы. Первый безо всякого зла, а будто выполняя обычную, нерадостную работу, отнял от коня мужика и, как тростинку, смахнул его в реку. Мужичок тот отфыркался, вынырнув, поплыл было по течению вниз, но быстро устал и лег на спину.
На излуке Неглинной оборванца прибило к глухому зеленому берегу. До тех пор вода с таким трудом держала его обезжиренный тесный скелет с костями, что пловец еле выполз на сушу. Сквозь лопухи перед ним мерещилась теперь чья-то разворованная изгородь, выше изгороди колосился синий бурьян, а еще выше в пустом тумане плыли дальние стены Белого города, окаймляющего посад. Мужичок, значит, еще находился в Москве.
Приподнявшись на колкие локти, он огляделся. Невдалеке в отмятой лебеде серовато пролегало что-то неживое, но еще как-то напоминающее бедующую человеческую жизнь. Мужичок, раздув ноздри, приблизился и различил замершего с открытым ртом старика, а может, это был молодой, рано покоробившийся от ожога голода, — теперь это нельзя узнать. Рядом с покойным помещался холщовый мешок, смятый плоскими, не содержащими что-либо складками; только несколько черствых ржаных крох, видимо выложенных на землю для учета стариком перед смертью, так и располагались правильной линией, с обеих сторон которой две мягкие мощные крысы, питаясь, двигались навстречу друг другу. Подползший бродяга сосредоточился и прыгнул на крыс. Впервые после срыва охоты на кошку и лошадь ему повезло, он получил одного грызуна и скрутил набок непримиримую вострую мордочку. Затем мужичок быстро проглотил остаток ржаной черствой пыли и начал сочную крысу, но та, внезапно ожив, закусила сама мужика, с боевым писком вырвалась и унеслась в бурьян. Охотник, впрочем, не очень расстроился, он уже успел почувствовать сытость от хлебных крох, и жилы сырого животного не так уж прельщали его. Подумав, походив вокруг старика, мужичок крякнул, взвалил сухое удобное тело на плечи и пошел с берега — поискать улицу за сорной травой.
Вскоре он признал, кажется, местность. Обошел немые лавки мытного рынка и, ведомый смрадным лакомым запахом, взял направление на корчму.
Всадник, летевший навстречу, поперек седла державший с опаской на взводе ручную пищаль, перед огромной лужей придержал жеребца. То был знакомый бродяге посыльный конник Афонин. Прежде, когда голодающий мужичок еще владел посудной мастерской, Афонин часто по казенной нужде проезжал мастерскую, по пути выпивал из резной ендовы, поданной из окна мастером, молока или меда, по настроению: у посудников, как в кабачке, тогда всего хватало.
— Будь жив, мастер! — заметил конник знакомого. — Снова родственника хоронишь? — указал он пищалью.
— Тесть на охоте усоп, — схитрил мужичок, подкрепленный из сумки покойного и ненадолго забывший алчное свое безумие, при помощи которого сам охотился в этот день.
— По-моему, ты его еще до Воздвиженья похранял, вслед деду, — вспомнил Афонин.
— То тесть был обычный, а это внучатый тесть — троюродного свояка шурин, — изобрел без усилия бывший посудник и без прощания двинулся далее, чтобы не устать, стоя под рассыпавшейся ношей.
— Сходи лучше на Скородом, на ленивый торжок, — окликнул мужичка снова посыльный, — там государевы люди с утра хлебцы казенные делят задаром между желающими. Все ваши туда пошли.
— Да знаю, — на ходу отозвался бродяга, — там убьют сейчас, не протолкнешься. Вся, почитай, страна за столичным питанием приковыляла. Может, к вечеру ближе схожу, посмотрю.
— Смотри. Лень одежу бережет, — ухмыльнулся Афонин и пустил жеребца шагом в лужу.
Взбираясь на черное заветное крыльцо[12], бродяга-посудник уже едва двигался от тяжести груза и дымного питательного дурмана, обволакивающего горячий кабак.
— Ты? — спросила мужичка хорошая мясистая целовальница в пятнистом убрусе[13], заправленном за уши, и отливающем жиром шугае поверх пачканого сарафана.
— Пирожка, милая, сырничка, — взмолился хрипло бродяжка, пожирая торговку глазами.
— Дохляка в этот раз принес, — сурово заметила целовальница, знающе приподнимая, как куричьи крылья, легкие ладони усопшего.
— Ладные больше не погибают, — оправдывался мужичок. — Годунов по базарам кормленья устроил, кто покрепче, до царских харчей пробивается.
— Опускай, — указала торговка, откинув розовой ладной ногой лоскутный половичок, а рукой за чугунное кольцо подняв дубовый ворот тайного погреба.
Кое-как посудник с покойником сошли по лесенке вниз и там шатнулись, чуть не упав. Повсюду скалились трупы, теплились кушанья. Собаки, кошки и воробьи колыхались в одной связке, мыши, как овощи, были уложены насыпью в подсыхающей ботве хвостов. Улыбчивый громила-мясник, подпоясанный корзлым от крови передником, бросал на красную колоду тушки и мелко их нарубал, затем обворачивал тонким блинком теста и отправлял в наспех сбитую печь без трубы, на раскаленный под.
— Не пойдет такой, — сказал стряпник-хозяин, осмотрев в свою очередь свежий товар, — смотрите, даже в костях пустота, — преломил он старика.
— Говорит, больше хороших не будет, — кивнула на бродяжку хозяйка. — Царь начал льготы налаживать.
— У? — Громила задумался, но ненадолго. — А сам он не подойдет?
У мужичка опустели ноги в коленях, но он подумал: не расслышал все же тут что-нибудь, и лишь когда целовальница обняла его сзади, прижавшись пышущей радостью сытости и алчной женственности плотью, а стряпник подошел с топором, бродяга затосковал.
— Подожди, наперво голову отделяй, а то закричит, — разумно поправляла заработавшегося хозяина хозяйка.
Сил, чтобы чуть дольше бояться или громко негодовать, у посудника не было, зато он тихо ощутил смысловую законченность собственной жизни.
«Вот и хорошо, — заключил он, подложив руку под голову, чтоб не кололась мелкими косточками колода, — хорошо, пускай жрут меня, мучаются. А мне пока за эго в небе сливки облаков взобьют».
Бармы[14] и саккосы[15]
В Благовещенском соборе в Кремле служили раннюю обедню. Корифей выпевал ектеньи, любознательно глядя на царскую свиту, крестившуюся невпопад. Оба клироса вторили дьякону, украшали высокие тоны высокой, смирённой заранее жалобой.
Борис всегда делал в церкви несколько дел, то есть именно отстаивал двухчасовую обедню, там же принимал безотложные доклады и челобитные, думал и управлял государством.
Сегодня он чувствовал себя наиболее уютно в соборе: с ним вместе молится едва ли не все высшее духовенство. Саккосы и фелони[16] дышат высшим спокойствием, от них ли ждать подвоха: какой монастырь не облагодетельствован? а сколько соборов построено? а впервые дарованное Русской земле патриаршество, уравнявшее Московию с Византией?
Вот он, в длинной мантии рытого бархата, в змейках золота и эсонита, в белом греческом клобуке с жемчужным херувимом над старым челом — патриарх всея Руси Иов, стоит рядом, говорит приглушенно и искренне, следя, чтобы никто, кроме друга-царя, не слыхал. Излишняя предосторожность: и Борис-то внимает с трудом за густыми распевами дьякона.
— Тому четверть века назад, как глад великий приключился, Иоанн-то Васильевич, помню, пальцем не пошевельнул, чтоб народу помочь… На тебя ж дивуюсь, государь! Просто открыл издыхающим пастбища неистощимые, не пощадил казны! По торжкам, площадям твои слуги весят хлеб колобами, высыпают полушки, наделяют всем поровну бедных…