Григорий Данилевский - Мирович
– Так тебе, землячок, графа Разумовского? – сказал он поморщившись и крякнув.
– Его ж, его ж… Розума нашего и кормильца!..
– Квартирует он в самом царском дворце, а с месяц, за переделками там, вот где проживает! – гордо ткнул пучком зелени важный господин, указывая через поросший травой берег Фонтанки на жестяные куполы Аничкова дворца. – То будет его хижка… царица ему подаровала… Что, хорошо?
– Фить-фить! – засвистал удивлённо старый Мирович. – А вы ж, ваше сиятельство, чем будете? и как вас титуловать?
– Кофи-шёнком у графа! – ещё важнее пыхнул сквозь зубы толстяк. – И я тебе, землячок, подозволь, так и быть, в чём нужно, помогу…
– Как же это кофи-шёнк? в каком будет ранге?
– А то же, почитай, что гофдиннер[23], – пускал пыли в глаза толстяк, – мало чем меньше тафельдекера[24], а то и больше того…
Мирович снял шапку и уж её не надевал.
Земляк привёл его к Аничкову саду, занимавшему в то время всё место, где теперь площадь с Александрийским театром, памятником Екатерине и Публичной библиотекой. Они обогнули этот сад со стороны Гостиного двора и от заводей Фонтанки и Чернышовских прудов, бывших на месте нынешних министерств народного просвещения и внутренних дел, подошли к небольшой садовой калитке. Вожатый, на расставанье, дал Мировичу несколько наставлений и обещал, если понадобится, пристроить его на квартире.
– Вот, малый, крыльцо, – указал он в калитку на один из летних павильонов дворца, – ступай прямо туда… Из прихожей будет тебе, братец, светличка – в ней граф завёл теперь принимать просителей… Там, коли не опоздал сегодня, и дожидайся…
Мирович тенистыми, пахучими аллеями прошёл к указанному павильону, заглянул в прихожую – ни души; заглянул в приёмную – тоже никого; постоял у порога, раза два кашлянул и, как был, в чёрной свите и смазанных дёгтем сапогах, поджав ноги, присел на голубую, штофную, с золотыми точёными ножками софу.
Долго он дожидался. Никто не приходил и не подавал голоса. Приём, очевидно, кончился. Но, раз попав так легко к высокому графу, о котором он, как о благодетеле своей семьи, столько наслышался и про которого такая слава и такой говор стояли на родине, – Мирович решился во что бы то ни стало ждать.
«А как выгонят?.. Ну, дворянина, пожалуй, и не посмеют…»
В комнате было ещё жарче, чем на дворе.
Мухи то и дело садились на потное, обросшее за дорогу лицо украинца. Мирович то дремал от усталости, то, с досадой и бранью отмахиваясь от мух, ловил их на лету и давил. Одна особенно назойливо и долго приставала к нему. Он её согнал с шеи – она укусила его за щёку и пересела ему на колено. Стиснув зубы, он прицелился на неё, хлопнул по ноге, но промахнулся: муха увильнула, посновала по комнате и опустилась на большую японскую вазу. Задремал в тишине Мирович. Солнечные лучи, врываясь сквозь ветви тихо трепетавших лип, яркими, извилистыми просветами играли по паркету, бронзе и зеркалам. Муха опять села на щёку Мировича, жужжа и путаясь в усах, укусила его и вновь улетела на вазу.
– А, каторжная! – проворчал Мирович. – Постой же! шкода! теперь не уйдёшь!
Он встал и тихо, на цыпочках, начал подкрадываться к обидчице; изловчился, размахнулся, но муха снова мимо, а ваза с громом рухнула с поставца и разлетелась вдребезги.
Резная лаковая дверка отворилась в углу комнаты. За нею показалась пола бархатного вишнёвого халата, звезда на лацкане и румяное, удивлённое, а вместе смеющееся лицо: густые чёрные брови, карие, с поволокой и краснинкой, глаза и вздрагивавшие от позывов к смеху крупные и влажные, добрые губы…
– А що, земляче, пиймав? – раздался голос пышущего здоровьем, сорокалетнего вельможи, узнавшего в госте земляка.
Яков Фёдорыч упал перед ним на колени. Граф Алексей Григорьевич Разумовский милостиво ободрил растерявшегося просителя, ласково ввёл его в свой кабинет, усадил в кресло и стал расспрашивать, кто он и как сюда попал.
– Знаю, знаю, сердце… Но неужто на волах? – спросил, удивлённо подняв брови, Разумовский. – Не шутишь? Так-таки, голубе сизый, на воликах, да ещё, может, и на серых?..
– На сирых, ваша графская светлость, на сирых…
– И погоныча, хлопчика, верно, взял?
– Сына… подросточка…
– Давай же его, голубоньку, сюда, может, и песни играет? где он?
– На лугу, у нового дворца, скотину с собакою пасёт.
– Как? где?..
Мирович объяснил. Граф окончательно покатился со смеху…
– Вот так придумал! – бархатным певучим горлом выводил Разумовский. – Кто ж тебя ко мне направил?
Мирович рассказал о своей встрече с кофи-шёнком графа, который и на квартире, у тёщи своей, обещал его пристроить.
– Какой кофи-шёнк? и что ты, диду, городишь? – опять зашевелил поднятыми бровями граф. – Земляк? И толстый? А!.. Так вот оно кто… Юрченко Абрашка! Ну, назвался же, собачий сын, каким титулом… А он у меня за подручного в поварне на людской… Кофи-шёнком же, друже, у меня француз Бриошь, и такая, скажу тебе, шельма искусная да гордая, что Абрашку ещё за вихры отдубасит, как узнает о его самозванстве… Так, так, он самый и есть! И у его тёщи, Бавыкинши, свой дом на Острову… И отлично…
Разумовский позвонил.
– Езжай же ты, сердце, к ней, – сказал он, – а завтра в эту же пору – или нет, постой, – лучше к вечеру, – будь ты опять у меня, да непременно с сыном и на волах… Тогда и о деле твоём потолкуем. А теперь некогда – еду во дворец.
За стеной послышалась суета. Поспешно вошёл разодетый в золотую ливрею слуга, за ним – другой.
– Торох, торох, посыпался горох!.. Эка, пентюхи… Вы спите там, – сказал Разумовский, – а тут, чтоб чёрт так и эдак побил вашего батька, добрый человек дожидается… Позвать повара Абрашку.
Вошёл Абрам. Мирович глазам своим не верил: куда делась важность мнимого кофи-шёнка – и живот осунулся, и куда-то в камзол спрятался двойной, вспотевший подбородок.
– Не пьян сегодня? – спросил, строго хмуря брови, граф. – Ну и отлично! редко с вами, архибестии, бывает… Так вот же что… Бери ты, Абрашка, вот сего сизого голубя к своей тёще на постой, да береги его, слышишь, пуще глазу… Угости там, успокой и покажи ему и его хлопцу столицу… А это ему пока на расход.
Граф бросил повару кошелёк.
На другой день государыня Елисавета Петровна пила у графа, в Аничковом саду, вечерний чай. Прибыла она из Летнего дворца, где теперь Инженерный замок, на катере с гребцами и с роговою музыкою. Катер въехал из Фонтанки прямо в пруд, бывший тогда среди Аничкова двора.
Государыне в саду графом были представлены Яков Фёдорыч и его сын Василий. Мальчик играл императрице на торбане, пел «Горлицу», «Гриця», плясал «трепака» и декламировал хвалебный, в честь царицы сложенный в то время киевскими бурсаками, кант. Государыня прослезилась. Но спустя недели три, когда ей от сената доставили справку о том, за что её покойный родитель отобрал в казну имения Мировичей, она не нашла возможным исполнить просьбу Якова Фёдорыча.
– Чудасия, мосыпане, да и полно! – воскликнул, топорща брови, не успевший в своей протекции Разумовский. – Не всё, братику, по-нашему! – пивень каже куд-кудак, а курочка – не так! Но дело твоё, не унывай, ещё выгорит… Докажи, чуешь, что в отобранных у вас поместьях были родовые, собственные маетности твоей матери. А без того – чтоб им болячка! – не можно… убей Бог, не можно… Посуди… сенат в твою пользу не доложит… Сказано: москали! лыком вязано, в лыках ходит, под лыком спит… Видишь, сердце, какие у них прицепки да щупы – на три аршина, собаки, под землёй щупают. Нельзя… финанции, казённый интерес!..
Слёзы прошибли Мировича. Он не ожидал отказа и неуспеха, когда добился свидания не только с графом, но и с царицей, подбирал, что бы ещё сказать, и не находил слов.
– А о хлопчике твоём, о сыне и не думай! – сказал тронутый его горем граф. – Государыня, до его великовозрастия, возьмёт его под свою опеку и милость. И такой-сякой я буду, слышишь, коли вру! Наплюй тогда в глаза… Завтра же велит его записать в кадеты, в шляхетный здешний корпус, – бо он у тебя, братику, всё-таки дворянин, нельзя! э! того нельзя!.. Да ещё вон какой до чёрта письменный… стихи важно дует – и дискант преизрядный… Без камертона, сразу верхние ноты, собачий сын, берёт… «Горлицу», «Не ходи, Грицю» как отчекрыжил!.. Херувимскую московскую тоже вон знатно спел, без ошибок; да полагаю, и по придворному, концертному, скоро насобачится..! А волов своего кума, сердце, знаешь, лучше оставь тут – продай их хоть и мне… Славные волы! и жалко их, диду, опять гнать бес его знает и куда… Я бы, слышишь, послал их да дачу тут свою, в Гостилицы… У меня, сердце, там дворец; а какие луга! Нехай бы ходили, шановались[25] да радовались по паше… Гей, гей, родина, хуторы наши, раздолье… Эхма! А впрочем, как знаешь. Брат Кирило в Батурин новоманерную мебель посылает себе на днях в гетманский дворец… Так и ты бы, может, поехал с его хлопцами…

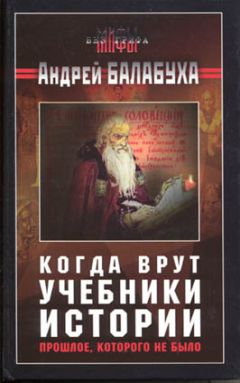
![Андрей Балабуха - Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было [без иллюстраций]](/uploads/posts/books/168497/168497.jpg)
