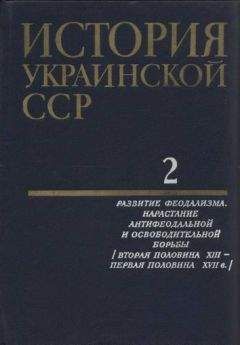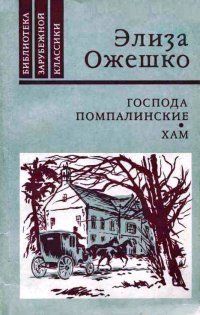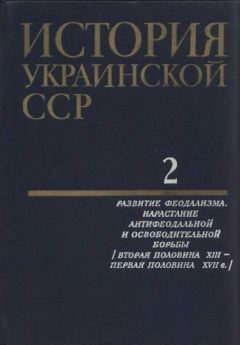Вера Панова - Сказание о Феодосии
Подобно той капле падали Феодосиевы годы, год за годом, с однообразным слабым звуком. Если бы не происходили иногда в обители события, отвлекающие от этого однообразия, — дни и ночи его слились бы в единую вечность без начал и концов, с ровными чередованиями света, мрака, дождя, снега, вёдра.
Исаакий, носивший козлиную шкуру, пожелал затвориться. Он вошел в пещеру, а братья заложили вход досками, в одной было прорезано крохотное оконце, и, взяв заступы, завалили доски землей до половины. И Исаакий не выходил из затвора семь лет. Пищу ему приносил Антоний и подавал в оконце, говоря:
— Господи благослови, отче Исаакий!
И голос Исаакия глухо откликался из темноты:
— Господи благослови, отче Антоний!
На восьмой год к Исаакию в его уединение стали приходить прекрасные крылатые юноши. От их лиц, одежд и сильных крыльев, покрытых белоснежным опереньем, шел свет, как от солнца. Толпой наполняли они пещеру, садились рядом с Исаакием, брали его за заскорузлые руки белыми гладкими руками, обнимали его плечи, изъеденные власяницей, а другие садились на корточки против него и играли на гуслях, сопелях и бубнах, и всё заглядывали ему в глаза и просили ласково:
— Спляши нам, Исаакий! Спляши!
— Кто вы? — спрашивал дико.
— Мы — ангелы, — отвечали они и, смеясь, пышно шумели крыльями, с которых так и сыпался свет. — Уважь, Исаакий, спляши нам, ты же мастер плясать, вспомни, как ты отплясывал в Торопце, когда лавку держал, когда тебя звали Чернь.
И он, вспомнив, принимался плясать в своей козлиной шкуре и плясал, пока не падал без сознания.
Однажды на рассвете Антоний пришел и, подавая в оконце хлеб, сказал, как обыкновенно:
— Господи благослови, отче Исаакий!
Несколько раз повторил и даже прокричал в самое оконце. Не слыша ответа, сказал:
— Преставился.
По его благословению иноки взяли заступы и ревностно принялись откапывать заваленный вход, радуясь, что господь призвал Исаакия во время подвига, дабы поместить средь праведников в чертогах своих.
Однако он был жив, и когда вынесли его из пещеры — простонал. Только не мог пошевелить ни руками, ни ногами, ни языком.
Они смутились. Но сказал Антоний:
— Да будет воля твоя! — и они склонились перед испытанием, ниспосланным Исаакию.
— Кто возьмется ходить за болящим? — спросил затем Антоний, обводя их взором.
Братья, потупясь, промолчали.
— Через него, — сказал Антоний, — к милосердию нашему взывает Христос. Сказано: «Был болен, и вы посетили меня».
Они еще ниже склонили головы, стоя вокруг Исаакия. Один глаз у него был закрыт, а другой вытаращен, сивая его борода свалялась с козлиной шерстью.
Наверно, вызвался бы ходить за болящим Иоанн, терзаемый плотью: он всегда искал потяжелее бремя. Но он как раз стоял в земле, закопанный. Вырыл себе яму глубиной до подмышек и, войдя в нее, засыпался землей, так что одни руки да голова были свободны. Он к этому средству прибегал время от времени, видя в нем некоторую пользу. По этой причине его не было возле Исаакия. Тогда сказал Феодосий, до сих пор молчавший, чтоб не высовываться вперед старших:
— Благослови, отче.
Он взял Исаакия к себе в келью, убирал его, обмывал, ложкой вливал в бесчувственный рот воду и жидкую кашу и молился об его исцелении, всякий раз смиренно добавляя:
— Да будет воля Твоя!
Его день проходил в трудах, и ночью он спал самую малость, считая отдых грехом. Сядет под лампадой и плетет лапоть, или сучит веревку — ризы подпоясывать. Для Никона, занимавшегося переплетением книг, прял нитки. Больше же всего молился. Но простонет на своем ложе Исаакий, и Феодосий покинет рукоделье, прервет молитву и спешит к нему, так что братия говорила:
— Поистине, с таким прилежанием за таким больным только святой ходить может.
Антоний, видя его неустанность, особенно его отличал. Феодосий был поставлен пресвитером и в очередь с Никоном и Антонием стал совершать в подземной церкви службу, которую знал до тонкости.
А Исаакий, пролежав бессловесно два года, вдруг заговорил и открыл, что с ним было. Как его умучили ангелы, заставляя плясать.
— Отче, отче! — сказал Антоний. — Где видано, чтоб ангелы плясать заставляли? То не ангельское действие, а бесовское. Ты с ними построже. Они к тебе, а ты скажи: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» И крестом их, крестом.
В болезни Исаакий забыл молитвы, и когда научился снова ходить, то в церковь пойти и не подумал. Пришлось Феодосию с самого начала его ко всему приучать. Сидеть в пещере Исаакий не хотел, полюбил работать на воздухе. Сойдет к Днепру и смотрит стоит, как он блещет, струясь; слушает, как кукушка кукует… Полюбил печь топить в пекарне. Затопит и глядит, уставясь на огонь, пока не окликнут.
Его тело потеряло чувствительность. Босиком становился на горящие уголья и не обжигался. Зимой стоял на заутрене в худой ризе, в насквозь протоптанной обуви и не мерз.
Бесы стали ему нипочем. Поманят ли сияющими небесными ликами, поползут ли на него змеями, мышами, жабами, — крестом их пугнет, скажет: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» — и как не было нечистой силы.
Жизнь текла над ними, как струи глубокой реки. То и се в ней происходило, битвы, свадьбы, плач, одни уходили с лица земли, другие являлись. Умерла Ярославова княгиня Ингигерда, в крещении Ирина, а за ней через четыре года, побывав в новом браке, умер Ярослав. Он был князь храбрый и усердный, старался устроить землю как получше, дал ей законы. Книги греческие приказывал переводить на славянский язык и сам их читал с охотой, и училища учреждал, и серебряную монету чеканил, и еще много сделал полезного, и своих сыновей они с Ингигердой переженили на иностранных королевнах да графинях, а всех трех дочек выдали замуж за королей. Так управившись, они покинули бренный мир, и в Киеве стал княжить Изяслав, и в его княжение воспоследовали для обители многие события и перемены.
По тропинке вдоль берега слышался топот. Из-за деревьев выезжали всадники. Молодые, беспечные, выхоленные, в вышитых рубашках, цветных сапожках, в островерхих пестрых тюбетеечках. Впереди ехал Иван Иванович, боярский сын. У отца с матерью он был любимое дитя за свою красоту. Баловали его, берегли, товарищей и слуг при нем состоял целый отряд. Как только вошел в жениховский возраст, сразу его женили. Молодая жена день и ночь его целовала и увлекала на пуховые перины. Но Иван Иванович не любил лежать на перинах с женой, а любил сидеть на травке у ног Антония и слушать его наставления — как жить, чтобы спасти свою бессмертную душу.
Вереницей подъезжали всадники, спешивались. Антоний выходил, кликал Никона и Феодосия, все трое спускались к приехавшим и благословляли их. Юноши брали коней под уздцы и шли поить их и купать, а Иван Иванович оставался. С Днепра доносился хохот, клики — он не слышал. Когда же звали его настойчиво домой, подымался нехотя и говорил:
— Век бы тут у вас сидел.
Однажды приехал разряженный, как на княжеский пир, и со всей свитой. Были они, как всегда, верхом и еще вели порожних коней, украшенных богато. Иван Иванович слез с коня и стал снимать с себя одежду и украшения. Положил перед Антонием и сказал:
— Остаюсь у вас. Постригите меня, а это платье и коней этих продайте и деньги раздайте вдовам и сиротам, чтоб молились за меня.
Иноки оробели, потому что отец Ивана Ивановича, боярин Вышата, был большой вельможа у князя Изяслава Ярославовича, а к большим вельможам приближаться надо с опаской. Антоний ответил:
— Что ты говоришь, чадо! Что это ты забрал себе в голову! Вовсе неразумное желание твое. Мы тебя наставляли, как в миру жить, чтоб твоя душа не пропала. А о пострижении и не мысли. Совсем это не по силам твоим.
— Нельзя, — возразил Иван Иванович, качая головой, — невозможно жить в миру, и чтоб душа не пропала. И на малое время не сосредоточиться, чтоб о ней подумать.
— Да помилуй! — сказал Антоний. — Сравни свою изнеженность с нашим житьем: надолго ли хватит твоего устремления? Каково тебе будет спать на голых досках, когда ты привык к пуху? А ведь мы, убогие, еще и камушков себе под бока подкладываем, а то и вовсе не спим, так, сидя, подремлем. Каково тебе будет есть житный хлеб, и то не досыта, запивая водицей из Днепра, когда ты вспоен-вскормлен на медах, винах и всяких разносолах?
— Ах, — сказал Иван Иванович, — надоели мне разносолы! Хочу спать на камушках и есть житный хлеб. Не вы ли, отцы, учили меня, что душе полезно, когда тело содержится в суровости?
— Так, — согласился Антоний. — Но легко это исполнять только бедняку, нахлебавшемуся невзгод. Богачу же лишения ужасны. И еще есть нечто в нашей монашеской жизни, что молодому страшней всех телесных утеснений. Чадо, затоскуешь без игр и песен в кругу сверстников, без праздных разговоров и мирских новостей. Могилой тебе покажется наша тишина. Чадо, она тебя изведет, убьет в тебе — боюсь вымолвить — любовь к богу.