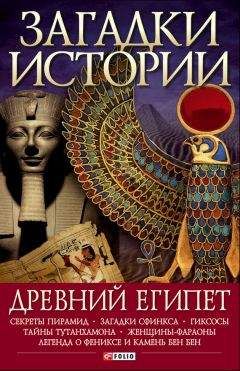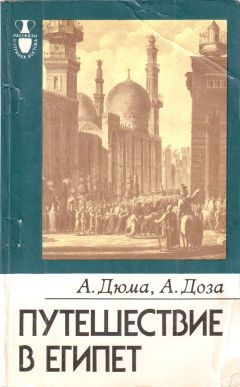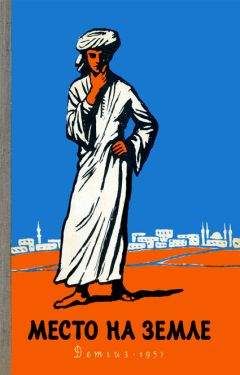Людо ван Экхаут - ЭТО БЫЛО В ДАХАУ
Я ожидал, что он начнет орать. Немцы всегда орут. Но у этого был тихий голос, который почему-то раздражал меня.
– Итак,- начал он,- вот и АМ1.
Я не испугался, так как уже знал, что им известен мой номер. Я молча ждал.
– Я майор Бос,- представился немец. – Бо-о-с, а не Бош. До войны служил инспектором уголовной полиции. Не пытайся водить меня за нос, я вижу тебя насквозь. А если вздумаешь врать…
Стало тихо. Замысел Боса был ясен: он рассчитывал на то, что тишина испугает меня. Так или иначе, но она и в самом деле наводила страх. Рядом с ним я был неопытным двадцатидвухлетним юнцом. Я думал о том, как ему удалось провести моего дядю.
Бос, улыбаясь, показал мне свой хлыст:
– Взгляни-ка, молодой человек. Знаешь, что это?
Он внимательно следил за мной. Я ответил как можно простодушнее:
– Нет, господин офицер.
– Это бамбук,- произнес он довольным тоном и с ухмылкой посмотрел на меня. – Так. Теперь можно начинать.
Он медленно встал. Снова игра. Когда он сидел, то казался просто грузным, но когда встал из-за стола, то оказался огромным детиной двухметрового роста. Руки как лопаты. Бос подошел ко мне, схватил за лацкан пиджака, приподнял и встряхнул.
– Знаешь, почему ты здесь? Я кивнул, и он отпустил меня.
– Мне уже рассказали,- ответил я.
– Учти: я все знаю. Мне известно о тебе все. Чтобы дать мне немного подумать, он опять стал копаться в бумагах на своем столе.
– Твоя оперетта имела большой успех, не так ли? – спросил Габардин.
Я взглянул на него. Он показал мне билет и программу. Значит, он был на спектакле.
– Сегодня опять пойду, – сказал он.
Он показал билет. На пятницу 10 марта 1944 года. Я старался скрыть свою радость. Значит, спектакли продолжаются. Главную роль в моей оперетте исполнял Каликст, и я не мог понять, кто же его заменил. Все расходы по спектаклю, очевидно, взяли на себя мои родители. Если представления сорвутся, то они понесут большие убытки. Черт возьми, какая чепуха лезет в голову… Ведь мне предстоит допрос.
– Я хочу знать все о членах твоей организации, – резко начал Бос. – Мелкая сошка меня не интересует. Руководители бригады и групп – вот кто мне нужен. Младших я знаю. Они меня не интересуют. Геверс, Ванарвеген и все остальные идиоты меня не интересуют.
Я молчал, выжидая. Геверс – мой заместитель. Ванарвеген – командир бригады. Я так никогда и не узнал, откуда Бос узнал их фамилии. Но в нашем городке было столько Геверсов и Ванарвегенов, что я решил лучше ждать и молчать.
– В твоей организации шестьсот пятьдесят членов,- сказал Бос. – Они меня не интересуют. Мне нужны командиры бригад и групп.
Он давил меня фактами: фамилии, точные цифры. В нашей бригаде действительно должно быть 650 человек. Фактически их было меньше, так как группы еще не были полностью укомплектованы. Я старался вспомнить, кто из арестованных знал о численном составе бригады и групп. Несколько человек.
– У меня нет людей,- ответил я.
Меня не проведешь. Я знал, что ему нужны все. От меня он хотел узнать фамилии командиров бригад и групп, а от них – фамилии подчиненных.
– У меня нет людей. Слишком большой риск заниматься вербовкой,- повторил я.
– Я все знаю о тебе,- скороговоркой повторил он.- Шеф вашей провинции уже месяц здесь. Он все рассказал. Языки быстро развязываются, когда приходится спасать собственную шкуру.
Но я понял, что шеф провинции молчал. Иначе Бос узнал бы значительно больше того, что сказал мне.
– У меня нет людей,- упорствовал я.- У меня было задание вербовать людей, но я его не выполнил. Мы все уже в ваших руках, других нет.
– Об этом поговорим потом,- сказал Бос. – Никакие увертки тебе не помогут. Здесь как на исповеди. Солжешь или забудешь что-нибудь – попадешь в ад. Разве твой ненормальный дядюшка не рассказал тебе о баньке, которую мы ему задали?
Я не ответил. Габардин жевал яблоко. Очкарик за пишущей машинкой, кусая ногти, ждал.
Бос начал зачитывать показания Луи Мертенса, дяди, Каликста Миссоттена. Он читал медленно и отчетливо. Видимо, он привык иметь дело с людьми, слабо знающими немецкий. Я подумал, что мне тоже лучше сделать вид, будто я не все понимаю. На самом же деле я говорил по-немецки совершенно свободно. Когда я был маленьким, мой отец несколько лет служил в жандармерии немецкой области, отошедшей к Бельгии после первой мировой войны, так что в детстве я учился немецкому и в школе и на улице.
Зачитав показания, Бос сделал небольшую паузу. Он смотрел на меня, постукивая бамбуковым хлыстом по руке. Он как бы изучал меня, обдумывая, какой «способ воздействия» применить ко мне: суровый или мягкий. Я ждал с нарочито глуповатым видом.
– Итак, болван, ты собираешься отвечать?
Я пожал плечами:
– Чего вы ждете от меня, если вам и так уже все сказали?
– Они-то сказали все,- подтвердил он.- Но ты нет. Ты знаешь значительно больше. Это наша первая встреча. Завтра, послезавтра или чуть позже я снова вызову тебя. И тогда ты сообщишь мне все подробности. Где ты должен был встречать этих воздушных бандитов? Куда отправлял их? Назови фамилии командиров бригады и групп. Надеюсь, что ты не вынудишь меня прибегнуть к крайним мерам. Я не сторонник таких вещей. В мирное время я был полицейским. И теперь остаюсь полицейским, только полицейским военного времени. Я стараюсь действовать старыми методами, если нет необходимости применять новые.
Он сам диктовал «мои» показания на основании уже полученных ранее. Унтер-офицер печатал неуклюжими пальцами, шевеля губами. Габардин продолжал не спеша грызть яблоко. Бос дал мне подписать протокол допроса и отправил обратно в тюрьму.
Я подумал, что все обошлось как нельзя лучше.
Когда меня доставили в камеру, там уже никого не было. Несколько часов я просидел один. Я радовался, что наконец остался в одиночестве. Нужно было все обдумать. Много ли знает Бос? Что нужно сделать, чтобы избежать новых арестов?
За мной пришли, велели взять еду и белье – меня переводили в камеру пятого отделения. В любом рассказе о тюремной жизни можно прочесть, что шаги в тюрьме звучат глухо, а двери скрипят. Да, шаги звучат глухо. И двери действительно скрипят. Этот скрежет дверных петель надрывает душу.
В камере уже сидели четыре человека. Говорят, что у заключенных лица серого цвета. Да, они и в самом деле были серого цвета.
В камере воздух был спертый и ужасно пахло. Потом, человеческими испражнениями. И страхом. А еще голодом. Узники выглядели изможденными и неряшливыми. В их глазах застыла безысходность. Все четверо были старше меня: лет сорока – пятидесяти. Они смотрели на меня, я – на них.
Один из них в форме капитана жандармерии сказал:
– Моя фамилия Липпефелд.
– Людо ван Экхаут,- представился я.
– Откуда ты?
– Из Мола.
– Это там, где песчаные карьеры?
– Да.
– За что тебя? – спросил грубоватый мужчина с усами. У него был лимбургский акцент.
– Ни за что,- ответил я. Судя по романам, в тюрьме среди заключенных обязательно должен сидеть шпик…- Не знаю, почему я оказался здесь. Наверное, взяли по ошибке.
Им это показалось забавным. Они засмеялись. Хотя смех этот был невеселый, но все же они смеялись. У некоторых даже слезы выступили.
– Никто сначала не знает, за что его посадили. Но после нескольких допросов кое-что проясняется.
– И за что же вы попали? – спросил я. Они переглянулись.
Лимбуржец сказал:
– Они арестовали моего сына. Он заболел, и его отправили в больницу. В бельгийскую больницу. Они все боялись, что он убежит по дороге, но он исчез из больницы. И теперь меня обвиняют в том, что я его оттуда вывез.
– Ты?
– Конечно же, нет. Я и понятия не имею, где он.
Франеке – цветочник из Мортселя – сказал:
– Мне никто не верит, но я действительно не знаю, почему я здесь.
– Зови меня просто Наполеоном,- представился маленький насмешливый мужчина. – Меня в наших краях все так звали. Я тоже не знаю, за что попал сюда.
– Меня арестовали прямо на службе, – рассказывал Липпефелд. – Даже не представляю, в чем причина. Здесь я ввел военные порядки. Считаю эту камеру как бы армейским карцером, где все должны выполнять определенные обязанности. С завтрашнего утра включишься и ты.
– Какой великолепный кусок мяса! – воскликнул лимбуржец.
– Нужно молиться, – назидательно сказал Франеке.
– Молиться? – возмутился я. – Зачем это?
Я получил среднее образование в католическом коллеже, где меня навсегда сделали атеистом и антиклерикалом.
– Чертовски хороший кусок мяса! – не унимался лимбуржец.
– Оставь его в покое, – взорвался Наполеон. – Нечего зариться на чужое. Через пару дней он подохнет с голоду. Ведь сопляк еще.
Я и не предполагал, что этот кусок мяса привлечет такое внимание. У меня было такое чувство, что мне больше никогда не захочется есть.
– Хотите попробовать? – спросил я.
– Еще бы! – воскликнул лимбуржец.