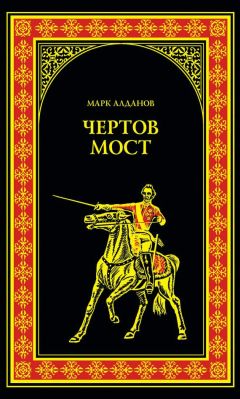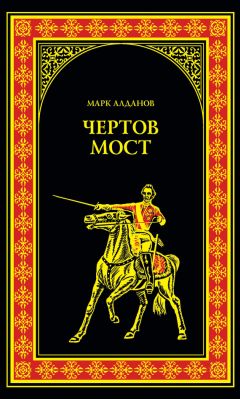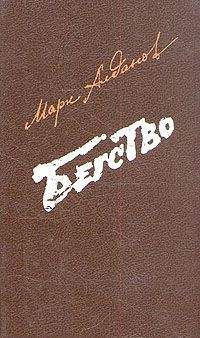Станислав Федотов - Возвращение Амура
– Позвольте представиться: генерал-майор Николай Муравьев.
– Так вы – русский!
Муравьев молча наклонил голову.
– А меня зовут Катрин де Ришмон. – Она вздохнула, и глаза ее снова наполнились слезами. – Анри Дюбуа – мой кузен. Мы… мы любили друг друга…
– Потерять любимого – это, конечно, очень тяжело. Примите мои соболезнования. Но… это совсем не значит, что и вы должны уйти из жизни… да еще таким ужасным способом.
Катрин удивленно взглянула на него:
– Я и не хотела уходить из жизни. Расстаться с прежней – да, собиралась, но вы помешали. Теперь мне с ней не расстаться…
– Тогда я ничего не понимаю! Вы же бросились под поезд!
– Ничего подобного! – Катрин взглянула в растерянные глаза «спасителя» и грустно улыбнулась. – Когда у нас в Гаскони проложили железную дорогу, Анри как-то сказал мне: если хочешь покончить с прошлым, надо перескочить через рельсы перед самым поездом, и поезд отрежет это прошлое. Вот и я хотела…
– Но это же очень опасно! Стоило ли так рисковать!
Катрин глубоко вздохнула:
– Per crucem ad lucem, как говорит наш духовник, патер Огюстен. Он любит патетику.
– А что это значит? – Муравьев не понимал латынь.
– Через страдания – к свету! – усмехнулась девушка.
Глава 3
Выходя из гостиной, генерал в который раз подивился природной деликатности поручика Вагранова. Он конечно же слышал музыку и пение и, постучав, не стал вламываться с докладом в покои, как на его месте поступили бы многие адъютанты дворянского происхождения. И сейчас он стоял по правую сторону двери – крепкий, среднего роста офицер с грубоватым обветренным мужественным лицом, которое очень молодили небольшие пшеничные бакенбарды и такие же усы. «Крестьянский сын, мой верный наперсник», – с удовольствием подумал Муравьев.
Увидев генерала, поручик встал по стойке «смирно», но без угодливого усердия:
– Здравия желаю, ваше превосходительство!
– Здравствуй, Иван Васильевич. Что ты чинишься к месту и не к месту? Когда нет посторонних, зови меня по имени-отчеству.
– Слушаюсь, ваше превосходительство!
Муравьев засмеялся, махнул рукой, спросил благодушно:
– Ну что там у тебя?
– Николай Николаевич, там полицейские пьяных привели…
– Что?! – вскинулся Муравьев. Благодушие на лице мгновенно смыло багровой волной. – На часах еще десяти нет, а в городе уже пьяные!
Оттолкнув Вагранова, он устремился к выходу.
2С пьянством у генерала были, можно сказать, особые отношения.
Его первая отставка из армии после Польской кампании и четырех-месячного лечения болезней, накопившихся за четыре года военной службы (а он с детства, по причине хрупкости сложения и слабости здоровья, был подвержен всяческим простудам и воспалениям), привела к тому, что отец потребовал от него вступить в управление имением Стоклишки. Это имение в Виленской губернии пожаловано было императором своему статс-секретарю в пожизненное пользование. Сам Николай Назарьевич тоже вышел к тому времени в отставку с должности начальника личной Его Императорского Величества канцелярии и осел со второй женой Елизаветой Антоновной, урожденной Моллер, и тремя их дочерьми в своем селе Покровском, неподалеку от Шлиссельбурга. Он успешно занимался сельским хозяйством и полагал, что кто-либо из сыновей должен приложить свои силы к основательно запущенным Стоклишкам. Но свободным на тот момент оказался лишь самый старший – Николай; второй сын Валериан, недавний выпускник Пажеского корпуса, успешно продолжал военную службу в чине поручика, младшему, Александру, исполнилось только одиннадцать, он учился в Лицее.
Пришлось двадцатидвухлетнему штабс-капитану в отставке впрягаться в помещичью лямку. Четыре года он старательно, как ему всегда было свойственно, тянул ее, но Бог, наверное, все же предназначал его для других трудов: на сельском поприще, не в пример военной службе, успехов не предвиделось. Из лета в лето Николая преследовали неудачи: неурожаи, обильные дожди, растущие долги (отец требовал отдавать ему накопленные неимоверными трудами деньги, все до копейки). В письме брату Валериану он жаловался с непривычной для его энергичной натуры тоской: «…все мои дела, все мои отношения, все мои обстоятельства, намерения, виды и расчеты так спутались, так затмились – и все мне на беду, все мне на горе, на неприятные хлопоты, – что я начинаю терять и терпение, и философию, и энергию…» Тогда-то он и познал, что такое безоглядное пьянство. Нет, конечно, он и раньше не прочь был распить бутылочку хорошего вина в офицерской компании; были случаи, что и перебирал, но – каждый день до полного затмения, да и не вино, на которое не было денег, а вонючую деревенскую сивуху – увольте! Это было противно его уму, натуре, и тем не менее…
Не однажды с содроганием душевным вспоминал Муравьев тот поздний октябрьский вечер, когда скакавший в Вильно по служебным делам брат Валериан заехал переночевать в отцовское имение. Поручика никто не встретил, поскольку в большом барском доме слуг почти не было – кухарка и камердинер Флегонт, крепостной Николая Назарьевича, отряженный к сыну с самого первого дня его службы в полку, давно спали. Валериан, не раз бывавший в Стоклишках и знавший, кто где обретается, сам разбудил конюха и сдал ему коня. Потом, звеня шпорами и, как ни странно, нигде ни за что не зацепившись в кромешной темноте, добрался до комнаты старшего брата.
Николай сидел за столом, на котором горела единственная свеча в медном подсвечнике и стояли ополовиненный штоф толстого зеленого стекла и несколько тарелок – с квашеной капустой, солеными огурцами, жареной с мясом картошкой. В руке его посверкивала гранями большая хрустальная рюмка. Николай только что выпил и задумчиво вертел ее в пальцах. Увидев Валериана, он вскочил, опрокинув стул, нетвердо шагнул навстречу и припал к груди брата, обнимая его обеими руками. Потом поднял лицо – Валериан был выше на полголовы, – и они расцеловались. От Николая густо пахнуло сивушными ароматами.
– Как я рад!.. Как я рад!.. – повторял он, помогая брату снять «николаевскую», с пелериной, подбитую кроличьим мехом шинель. Суконный, с опушкой, кивер Валериан небрежно кинул на диванчик у стены.
Николай достал из настенного шкафчика еще одну рюмку, тарелку, вилку, устроил брата за столом. Хотел плеснуть из штофа, но Валериан остановил его:
– Что ты пьешь всякую гадость?! – и вынул из внутреннего кармана шинели плоскую фляжку. – У меня тут арманьяк…
Выпили по рюмке пряно пахнущей маслянистой жидкости – от удовольствия даже в носу защипало; Валериан в отсутствие лимона и сыра закусил огурцом и картошкой. Николай закусывать не стал, покрутил лобастой головой:
– Стоило нектар переводить! Я уж лучше самогончику…
– Не узнаю тебя, брат, – удивленно протянул Валериан. – Видно, частенько прикладываешься к штофу, коли у тебя с сивухой столь фамильярные отношения. Спиться не боишься?
– Боюсь, – мрачно признался старший брат. – А что прикажешь делать, мой любезный Валера, ежели на каждом шагу терплю поражение за поражением? Вот – осыпалась пшеница, потому что нет денег, чтобы нанять крестьян на уборку. Ты же знаешь: крепостных в Стоклишках нет, а своих, из Покровского, папенька не дает… Коров никто не хочет брать в аренду, поскольку масло и разные там творог и сметана на рынке все дешевеют и дешевеют. Кому охота за гроши спину гнуть?! – Николай дрожащей рукой налил из штофа в свою рюмку, опрокинул в рот, выдохнул и бросил туда же щепоть капусты. Прожевал, глядя на дрожащий огонек свечи. Валериан молчал. Брат тяжело вздохнул. – А в казну платить очередной взнос – это полторы тысячи рублей, где их взять?! Ты знаешь, я давно уже похож на Сизифа с его камнем. Качу-качу его в гору, а он – рраз! – и вниз… И ко всему еще – полнейшее духовное одиночество!
– Жениться тебе надо. Двадцать восемь лет уже…
– Ага! Ты вон женился. Сколько я тебе советов давал, как строить отношения с родителями невесты, каждый день писал – а что толку? Папенька наш сказал: нет! – и все усилия пошли прахом… Да и не нравится мне никто.
– Знаю, знаю, кто у тебя на сердце. – Валериан налил себе арманьяку, а брату – мутноватой жидкости из штофа. Встал. Николай тоже поднялся. – За здоровье великой княгини Елены Павловны!
Выпили, сели.
– Все, все мне опротивело! – Николай так резко стукнул рюмкой по столу, что у нее отвалилась ножка. Удивленно посмотрев на обломки, отодвинул их в сторону. – Представляешь, Валера, мне даже сны стали сниться препротивные. Вижу мертвых в гробах, все они полусгнившие и смотрят на меня… Поля вижу, засеянные сгнившей пшеницей… И люди вокруг меня, незнакомые, злобные… Раньше я мог сказать «что будет, то будет» и оставался спокоен в любых передрягах, а теперь постоянно предвижу худое, и все – представляешь? все! – сбывается.